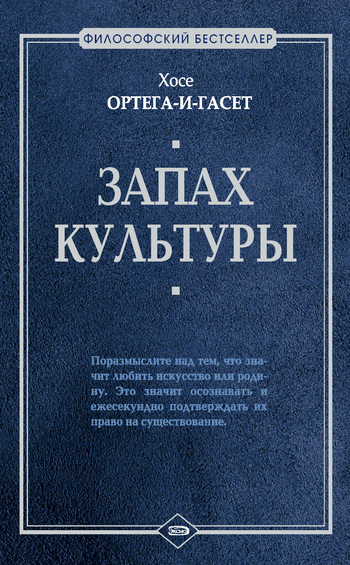идеями. С маху отбросить их человек не осмеливается, в глубине души он все еще верит, что интеллектуальная сила – нечто чудесное. Но в то же самое время у него складывается впечатление, что роль и место интеллектуального начала в человеческой жизни не те, что отводились ему на протяжении последних трехсот лет. Но какова его нынешняя роль? Этого человек не знает.
Когда тревоги и беды нашего времени являются нам во всей своей неумолимой данности, говорить о том, что они происходят от чего-то сугубо абстрактного и духовного, может показаться чудачеством. Что общего у какого-то духовного феномена и переживаемых нами ныне ужасного экономического кризиса, войны, убийств, тревог, отчаяния? Никакого сходства, даже самого отдаленного. У меня на этот счет два соображения; первое: я еще никогда не видал, чтобы корень цветка походил на сам цветок и на плод. И, может статься, это удел всякой причины – ничем не походить на свое следствие. Считать обратное – ошибка, свойственная магическим воззрениям на мир: similia similibus. [89] Во-вторых: кое-какие нелепости имеют право на существование, и высказывать их вслух – дело философа. Платон, во всяком случае, без обиняков заявляет, что на философа возложена миссия чудака (см. диалог «Парменид»). Не подумайте, что быть чудаком – легко. Для этого потребна храбрость, на которую обычно оказывались неспособны как великие воители, так и ярые революционеры. И те и другие обыкновенно отличались немалым тщеславием, но у них мурашки по коже шли, как только речь заходила о такой малости, как стать посмешищем. Вот и приходится человечеству занимать храбрости у философов.
Но может ли обойтись человек без той последней полномочной и полновластной инстанции, чью неумолимую власть он над собой ощущает? Этой инстанции как верховному судье поверяет он сомнения, обращается с жалобами. На протяжении последних лет такой последней инстанцией были идеи или то, что принято называть «разумом». Ныне эта ясная вера в разум поколеблена, она замутилась, а так как именно на ней держится вся наша жизнь, то и получается, что мы не можем ни существовать, ни сосуществовать. И нигде не видно никакой другой веры, которая могла бы заменить ее. А потому и существование наше кажется неукорененным – отсюда ощущение того, что мы падаем, падаем в бездонную пропасть. Мы судорожно машем руками, не находя, за что бы зацепиться. Но бывает ли, чтобы вера умирала по иной причине, нежели рождение другой веры? И можно ли осознать ошибку, еще не утвердившись на почве внезапно открывшейся новой истины? Так вот, речь, стало быть, идет не о смерти веры в разум, а о ее болезни. Постараемся найти лекарство.
Вспомните, читатель, разразившуюся в вашей душе маленькую драму: вы едете в автомобиле (в устройстве машин вы ничего не смыслите) и вдруг – «panne». Акт первый: по отношению к поездке случившееся носит абсолютный характер – дальше ехать нельзя. Машина не притормозила, не приостановилась – она остановилась совсем и окончательно. А поскольку вы не разбираетесь в устройстве автомобиля, он представляется вам каким-то неделимым целым. И поэтому, если в нем что-то ломается, – ломается все. Так что на абсолютную остановку автомобиля несведущий человек реагирует определенным образом – его ум начинает искать абсолютную причину, и всякая «panne» кажется ему окончательной и непоправимой.» Отчаяние, воздетые руки: «Теперь придется здесь заночевать!» Акт второй: шофер с невозмутимым видом подходит к двигателю. Подкручивает одну гайку, другую. Потом снова садится за руль. Автомобиль победно трогается с места, словно возродившись. Ликование.
Спасение. Акт третий: радость чуть-чуть омрачена подспудным неприятным ощущением, чем-то вроде легкого смущения. Нам представляется, что первая реакция отчаяния была нелепой, бездумной, ребяческой. Как же это мы не подумали о том, что машина состоит из разных частей и неполадка в любой из них может привести к остановке автомобиля. Мы начинаем отдавать себе отчет в том, что абсолютный факт остановки необязательно предполагает абсолютную причину и что может быть достаточно ерундовой починки. Короче говоря, нам стыдно за свою невыдержанность, мы преисполняемся уважения к шоферу – человеку, который знает свое дело.
А вот с серьезной «panne» в исторической нашей жизни мы пока находимся в первом акте. Ведь с коллективными проблемами и общественным механизмом все обстоит много сложнее: шофер уже не может так же невозмутимо и уверенно подкручивать гайки, если не рассчитывает на доверие и уважение тех, кого везет, если не думает, что пассажиры верят, что он «знает свое дело». Иными словами, третий акт должен идти прежде первого, а это задачка не из простых. К тому же разболтавшихся гаек полным-полно и все они в разных местах. Ну да, никуда не денешься. Главное, чтобы все добросовестно, не устраивая шумихи, делали свое дело. Вот и я здесь с вами словно прилип к мотору и как проклятый копаюсь в нем.
А теперь пора возвратиться к различению верований и случающихся у нас идей. Верования – это все те вещи, на которые мы полностью полагаемся, полагаемся не задумываясь. И только потому, что мы пребываем в уверенности, что они существуют, что вещи таковы, какими мы их считаем, мы не задаемся на их счет никакими вопросами, – мы действуем автоматически, полагаясь на эти вещи. Например, идя по улице, мы не предпринимаем попытки пройти сквозь стену, мы автоматически стараемся со стенами не сталкиваться, хотя никакой отчетливой идеи – стены непроницаемы – у нас при этом не возникает. И в каждом миге нашей жизни полно таких верований. Но бывают случаи, когда такой уверенности нет, – тогда мы начинаем сомневаться, так это или не так, а если не так, то как. Единственный выход из этой ситуации – составить себе понятие о вещах, в которых мы сомневаемся. Таким образом, можно сказать, что идеи – это «вещи», которые мы сознательно созидаем, вырабатываем именно потому, что не верим в них. Полагаю, это самая исчерпывающая и точная постановка великого вопроса о причудливой и деликатной роли идей в нашей жизни.
Обратите внимание на то, что под именем идеи я объединяю все: обиходные и научные идеи, религиозные и любые другие. Потому что полной и истинной реальностью для нас является лишь то, во что мы верим. Меж тем идеи рождаются из сомнений, они рождаются там, откуда ушли верования, поэтому мир наших идей – это не полная истинная реальность. Что же он такое? Пока что не премину отметить, что идеи напоминают костыли: они требуются в тех случаях, когда захромало или сокрушилось верование.
Сейчас неуместно задаваться вопросом о происхождении верований, о