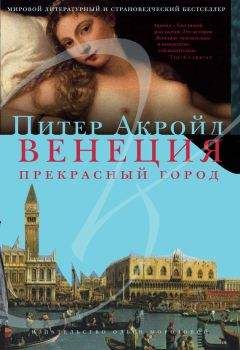Так постепенно рос и расширялся Альдийский кружок, ставивший задачей распространение знаний; основным языком общения внутри кружка был греческий, что позволяло Мануцию говорить о Венеции как о новых Афинах. Членами кружка были Эразм Роттердамский и другие странствующие ученые и гуманисты; впоследствии Эразм вспоминал, что работники, числом около тридцати трех, спали прямо в типографии; пища, которую они получали, показалась ему скудной, а вино – кислым.
Альд Мануций часто общался с венецианскими аристократами, считавшими себя покровителями наук, которые были убеждены в том, что деятельность издателя способствует еще большему прославлению Венеции. Впрочем, со временем гостей, желавших переговорить с Мануцием, стало так много, что он поместил у своего дома на углу campo Сан-Агостино такое объявление: «Кем бы вы ни были, Альд настоятельно просит излагать ваше дело как можно короче и не задерживаться, если только вы не намерены оказать нам содействие, подобно Геркулесу, предложившему помощь усталому Атласу. И для вас, и для любого, кто последует вашему примеру, работа всегда найдется».
Между тем превращение науки и знаний в товар имело и другие последствия. Утверждалось, к примеру, что изобилие книг сделало людей менее трудолюбивыми. Приходилось слышать и жалобы на вульгарность новой технологии. Впрочем, в эпоху культурных перемен те, кто опирается на старые порядки, всегда испытывают обеспокоенность. Издательство Альда сделало важное дело, представив античных классиков широкой аудитории – его книги были меньше и дешевле, чем любые другие издания. Некоторые ученые, однако, восприняли результаты его деятельности как угрозу собственному культурному превосходству.
Венецианские типографии с большим успехом выпускали также ноты, карты, медицинские атласы, распространяя новейшие знания по всей Европе. Публиковались книги по анатомии человека и искусству военной фортификации. В доступных дешевых брошюрах издавалась в Венеции и популярная литература назидательно-благочестивого и развлекательного (народные сказки, баллады) толка.
Похоже, именно печатное слово соединило самые разные общественные слои европейского общества, в противном случае отклик на учение Лютера не был бы столь широким и массовым. Новейшие географические карты способствовали складыванию более эффективной системы международной торговли. Коммерциализация знаний, будучи следствием гуманизма эпохи Возрождения, косвенным образом содействовала религиозной Реформации и Промышленной революции.
На самом деле у венецианцев был университет, только он находился в Падуе, захваченной в 1404 году и расположенной в тридцати двух километрах западнее Венеции. Венецианским властям не хотелось, чтобы на территории города постоянно находились многочисленные студенты, для которых был характерен дух бунтарства и свободомыслия. Кроме того, власти были озабочены лояльностью городской молодежи, поэтому венецианцам запрещалось учиться где-либо еще, кроме Падуи. Отпрыски аристократических венецианских семейств вынуждены были отправляться в поисках образования на материк, где сталкивались с молодыми людьми из Великобритании, Германии, Польши и Венгрии. К XVI веку многие из этих иностранцев были уже последователями реформированной Церкви Лютера и Цвингли, однако их отступление от традиционной религии нисколько не беспокоило венецианские власти, которые привыкли иметь дело с разными верованиями.
Падуя славилась также юридическими и медицинскими школами, став, по словам Томаса Кориата, «весьма привлекательным местом, своего рода ярмарочным городом, где торгуют знаниями». Здесь имелись кафедра сельского хозяйства и ветеринарная школа, а также широко известное анатомическое отделение, которому венецианские власти обеспечивали достаточное количество трупов. К середине XVI века Падуя была крупнейшим научным и образовательным центром Европы. В мире, где господствовали государственная религия и индивидуальное благочестие, она одна предлагала светское образование. Именно это и послужило фундаментом ее широкой популярности. Как писал в XVI веке некий венецианец, «мы ни во что не ставим знание вещей, в которых не испытываем необходимости».
Это было одной из причин, почему в отличие от таких видов художественного творчества, как музыка и живопись, в Венеции почти не развивалась литература. Для этого имелись и социально-политические, и чисто практические предпосылки. Литература задает вопросы и ставит проблемы, тогда как живопись и музыка утверждают и прославляют. Художественные тексты способны подорвать существующий порядок и даже спровоцировать революцию, тогда как изобразительное искусство и музыка вселяют в души людей стремление к гармонии и стабильности. Франческо Сагредо, венецианский аристократ и гуманист, который в начале XVII века был товарищем и помощником Галилея, слыл человеком большой учености и ума, его свидетельство может дать нам ключ к пониманию венецианского гуманизма: «Я – венецианский дворянин, и никогда не стремился к славе ученого. У меня сложились добрые отношения со многими высокообразованными людьми, поэтому я всегда старался им помогать. Я, однако, никогда не считал, что знание философии и математики принесет мне богатство, известность и уважение скорее, чем моя честность и надлежащее управление делами республики».
Венеция на протяжении столетий притягивала многих знаменитых писателей, однако собственных литераторов город выпестовал не так уж много. Пожалуй, двумя самыми известными в этой области сыновьями Венеции были Марко Поло и Казанова, причем их произведения были, по сути, мемуарами.
Мемуары Казановы предлагают вниманию читателей жизнеописание человека, воплотившего Дух города. «Моим основным занятием в течение жизни всегда было услаждение собственных чувств, – писал Казанова. – Ничего более важного я никогда себе не представлял». Пожалуй, эти слова можно считать основным догматом, своего рода символом веры венецианцев. Знания, которыми владел Казанова, ни в малейшей степени не способствовали самоанализу, находя выражение лишь в бесконечной двойственности и театральности его характера. Несмотря на многочисленные случаи совращения и даже попытки насилия, Казанова не проявляет ни тени раскаяния; он даже не считает себя сколько-нибудь виноватым. Любая рефлексия или сожаления абсолютно ему чужды. Может показаться, что он, словно персонаж comedia dell’arte, обречен играть одну и ту же роль в каждом эпизоде, в каждой пьесе. Пожалуй, вовсе не удивительно, что история его заключения и побега из темницы Дворца дожей является важнейшим текстом в социальной истории Венеции; на самом деле Казанова находился в плену собственной не склонной к размышлениям и анализу натуры.
В венецианской литературе вообще трудно найти примеры самоанализа и самокритики. Подобная тематика просто не вызывала у читателей интереса, что является типичным для культуры, отвергающей любые проявления индивидуализма.
Оригинальная венецианская литература не была ни трагической, ни исповедальной. Известны несколько образчиков эпической поэзии, причем довольно скучных. Поэзия не пользовалась в городе популярностью, что только еще раз подтверждает тот факт, сколь малое значение придавалось в обществе попыткам индивидуального самовыражения.
Сравнительно большим спросом пользовалась массовая литература, в том числе народные сказки и легенды, а также публицистика и исторические сочинения. Венецианская историческая традиция отличалась мрачностью, склонностью к детализации и чрезмерной заземленностью. Народная традиция активно использовала фантазию и предрассудки – чудеса, призраки и иные причудливые и эксцентрические элементы.
Как иначе объяснить невероятную популярность пьес Карло Гоцци, самой известной из которых считается «Любовь к трем апельсинам» (1761) – та, где из трех заколдованных плодов появляются прекрасные принцессы? Ее сюжет взят автором из сказки, которую какая-то старушка рассказывала детишкам на ночь. Гоцци утверждал, будто написал пьесу просто чтобы «доставить удовольствие неразумным венецианцам». По свидетельству итальянского критика Джузеппе Баретти, венецианская публика аплодировала на премьере «неистово и яростно», что впоследствии дало ему основания утверждать в книге «Обычаи и традиции Италии», что «венецианцы… не отличаются особым усердием, когда речь идет о поисках истины; воображение нередко уносит их слишком далеко, тогда как здравый смысл продолжает крепко спать».
Драмы Гоцци были типичными фантазиями XVIII века – с волшебниками и чудовищами, конными рыцарями и дьяволом в красной одежде, и представляли собой странную смесь высокопарности и пародии, стенаний и фарса, продолжая венецианскую традицию comedia dell’arte в значительно более сентиментальном ключе. Эта драматическая форма и стала квинтэссенцией венецианской литературной культуры.