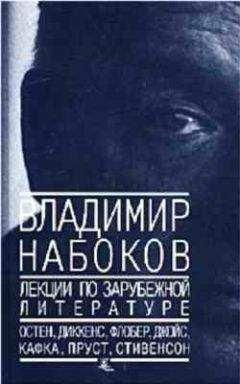— Успокойтесь, — сказал я.
Он оглянулся на меня, раздвинув губы в жалкой улыбке, и с решимостью отчаяния сдернул простыню. Увидев содержимое ящика, он испустил всхлипывающий вздох, полный такого невыразимого облегчения, что я окаменел. А затем, уже почти совсем овладев своим голосом, он спросил:
— Нет ли у вас мензурки?
Я встал с некоторым усилием и подал ему просимое.
Он поблагодарил меня кивком и улыбкой, отмерил некоторое количество красной тинктуры и добавил в нее один из порошков. Смесь, которая была сперва красноватого оттенка, по мере растворения кристаллов начала светлеть, с шипением пузыриться и выбрасывать облачка пара. Внезапно процесс этот прекратился, и в тот же момент микстура стала темно-фиолетовой, а потом этот цвет медленно сменился бледно-зеленым. Мой посетитель, внимательно следивший за этими изменениями, улыбнулся, поставил мензурку на стол, а затем пристально посмотрел на меня».
Незнакомец предлагает Лэньону удалиться или остаться при условии, что все им увиденное должно избежать огласки как «врачебная тайна». Лэньон остается.
«— Пусть так, — ответил мой посетитель. — Лэньон, вы помните нашу профессиональную клятву? <…> А теперь… теперь человек, столь долго исповедовавший самые узкие и грубо материальные взгляды, отрицавшие самую возможность трансцендентной медицины, смеявшийся над теми, кто был талантливей, — смотри!
Он поднес мензурку к губам и залпом выпил ее содержимое. Раздался короткий вопль, он покачнулся, зашатался, схватился за стол, глядя перед собой налитыми кровью глазами, судорожно глотая воздух открытым ртом; и вдруг я заметил, что он меняется… становится словно больше… его лицо вдруг почернело, черты расплылись, преобразились — ив следующий миг я вскочил, отпрянул к стене и поднял руку, заслоняясь от этого видения, теряя рассудок от ужаса.
— Боже мой! — вскрикнул я и продолжал твердить "Боже мой!", ибо передо мной, бледный, измученный, ослабевший, шаря перед собой руками, точно человек, воскресший из мертвых, — передо мной стоял Генри Джекил!
Я не решаюсь доверить бумаге то, что он рассказал мне за следующий час. Я видел то, что видел, я слышал то, что слышал, и моя душа была этим растерзана; однако теперь, когда это зрелище уже не стоит перед моими глазами, я спрашиваю себя, верю ли я в то, что было, — и не знаю ответа. <…> Но даже в мыслях я не могу без содрогания обратиться к той бездне гнуснейшей безнравственности, которую открыл мне этот человек, пусть со слезами раскаяния. Я скажу только одно, Аттерсон, но этого (если вы заставите себя поверить) будет достаточно. Тот, кто прокрался ко мне в дом в ту ночь, носил — по собственному признанию Джекила — имя Хайда, и его разыскивали по всей стране как убийцу Кэрью».
Письмо доктора Лэньона оставляет достаточно неопределенности, которая рассеивается по прочтении Аттерсоном «Исчерпывающего объяснения Генри Джекила», замыкающего рассказ. Джекил сообщает, как стремление скрыть свои юношеские развлечения вылилось у него в пагубную привычку к двойной жизни. «Таким образом, я стал тем, чем стал, не из-за своих довольно безобидных недостатков, а из-за бескомпромиссности моих лучших стремлений — те области добра и зла, которые сливаются в противоречиво двойственную природу человека, в моей душе были разделены гораздо более резко и глубоко, чем они разделяются в душах подавляющего большинства людей». Его научные занятия, тяготевшие к области мистического и трансцендентного, в конце концов привели его к уяснению той истины, «что человек на самом деле не един, но двоичен»: «Еще задолго до того, как мои научные изыскания открыли передо мной практическую возможность такого чуда, я с наслаждением, точно заветной мечте, предавался мыслям о полном разделении этих двух элементов. Если бы только, говорил я себе, их можно было расселить в отдельные тела, жизнь освободилась бы от всего, что делает ее невыносимой; дурной близнец пошел бы своим путем, свободный от высоких стремлений и угрызений совести добродетельного двойника, а тот мог бы спокойно и неуклонно идти своей благой стезей, творя добро, согласно своим наклонностям и не опасаясь более позора и кары, которые прежде мог бы навлечь на него соседствовавший с ним носитель зла. Это насильственное соединение в одном пучке двух столь различных прутьев, эта непрерывная борьба двух враждующих близнецов в истерзанной утробе души были извечным проклятием человечества. Но как же их разъединить?»
Далее следует яркое описание того, как доктор Джекил открывает чудодейственный напиток и, отведав его, превращается в мистера Хайда, который «был единственным среди всего человечества чистым воплощением зла»: «Я медлил перед зеркалом не долее минуты — мне предстояло проделать второй и решающий опыт: я должен был проверить, смогу ли я вернуть себе прежнюю личность или мне придется, не дожидаясь рассвета, бежать из дома, переставшего быть моим. Поспешив назад в кабинет, я снова приготовил и испил магическую чашу, снова испытал муки преображения и очнулся уже с характером, телом и лицом Генри Джекила».
Сначала все обстоит благополучно. «Я был первым человеком, которого общество видело облаченным в одежды почтенной добродетели и который мог в мгновение ока сбросить с себя этот временный наряд, и, подобно вырвавшемуся на свободу школьнику, кинуться в море распущенности. Но в отличие от этого школьника мне в моем непроницаемом плаще не грозила опасность быть узнанным. Поймите, я ведь просто не существовал. Стоило мне скрыться за дверью лаборатории, в одну-две секунды смешать и выпить питье — я бдительно следил за тем, чтобы тинктура и порошки всегда были у меня под рукой, — и Эдвард Хайд, что бы он ни натворил, исчез бы, как след дыхания на зеркале, а вместо него в кабинете оказался бы Генри Джекил, человек, который, мирно трудясь у себя дома при свете полночной лампы, мог бы смеяться над любыми подозрениями». Нам почти ничего не сообщается об утехах, которым предается Джекил в образе Хайда, пока совесть его спит глубоким сном; то, что у Джекила было «не очень достойным, но и только», у Хайда превращается в «нечто чудовищное». «Этот фактотум, которого я вызвал из своей собственной души и послал одного искать наслаждений на его лад, был существом по самой своей природе злобным и преступным; каждое его действие, каждая мысль диктовались себялюбием, с животной жадностью он упивался чужими страданиями и не знал жалости, как каменное изваяние». Так мы узнаем о садизме Хайда.
Затем положение начинает ухудшаться. Облекаться в тело Джекила становится все труднее. Порой приходится прибегать к двойной дозе элексира, а как-то раз, рискуя жизнью, даже к тройной. Однажды питье не подействовало вовсе. Через некоторое время, проснувшись утром в своем в доме на площади, Джекил принимается лениво размышлять над тем, почему ему кажется, что он находится не у себя в спальне, а в комнатушке Хайда в Сохо. «Я все еще был занят этими мыслями, как вдруг в одну из минут пробуждения случайно взглянул на свою руку. Как вы сами не раз говорили, рука Генри Джекила по форме и размерам была настоящей рукой врача — крупной, сильной, белой и красивой. Однако лежавшая на одеяле полусжатая в кулак рука, которую я теперь ясно разглядел в желтоватом свете позднего лондонского утра, была худой, жилистой, узловатой, землисто-бледной и густо поросшей жесткими волосами. Это была рука Эдварда Хайда. <…> Да, я лег спать Генри Джекилом, а проснулся Эдвардом Хайдом». Ему удается пробраться в лабораторию и вернуть себе облик доктора Джекила, однако глубокое потрясение, вызванное непроизвольным превращением, приводит его к решению отказаться от двойного существования. «Да, я предпочел пожилого доктора, втайне не удовлетворенного жизнью, но окруженного друзьями и лелеющего благородные надежды; я предпочел его и решительно простился со свободой, относительной юностью, легкой походкой, необузданностью порывов и запретными наслаждениями — со всем тем, чем был мне дорог облик Эдварда Хайда».
Два месяца Джекил свято соблюдает свой обет, однако так и не отказывается от дома в Сохо и не уничтожает одежду Эдварда Хайда, которая лежит наготове У него в лаборатории. И приходит минута душевной слабости: «Мой Дьявол слишком долго изнывал в темнице, и наружу он вырвался с ревом. Я еще не допил своего состава, как уже ощутил неудержимое и яростное желание творить зло». Учтивость сэра Дэнверса Кэрью приводит его в бешенство, и он зверски убивает пожилого джентльмена. Упиваясь восторгом при каждом ударе, он вдруг ощущает в сердце леденящий ужас. «Туман рассеялся, я понял, что мне грозит смерть, и бежал от места своего разгула, ликуя и трепеща одновременно, — удовлетворенная жажда зла наполняла меня радостью, а любовь к жизни была напряжена, как струна скрипки. Я бросился в Сохо и для верности уничтожил бумаги, хранившиеся в моем тамошнем доме; затем я снова вышел на освещенные фонарями улицы все в том же двойственном настроении — я смаковал мое преступление, беззаботно обдумывал, какие еще совершу в будущем, и в то же время продолжал торопливо идти, продолжал прислушиваться, не раздались ли уже позади меня шаги отмстителя. Хайд весело напевал, составляя напиток, и выпил его за здоровье убитого. Но не успели еще стихнуть муки преображения, как Генри Джекил, проливая слезы смиренной благодарности и раскаяния, упал на колени и простер в мольбе руки к небесам».