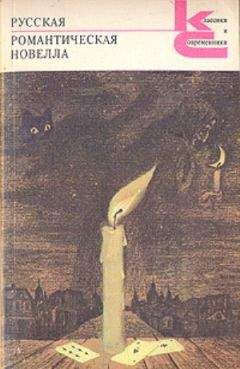Сумароков отстаивал свои права автора, первый в России заявляя о них. Приехав в Москву, он заключил официальный контракт с хозяином театра Бельмонти о том, что его пьесы не будут ставиться на сцене без его согласия. В 1770 году должен был идти «Синап и Трувор», но актеры не успели разучить трагедию, а пьяная и распутная актриса Иванова, игравшая главную роль, была столь нетрезва, что не могла приехать на генеральную репетицию. Сумароков забунтовал. Тогда Салтыков, к которому он пришел, накричал на него; «для чего ты вплетаешься в представление драм?» – кричал бурбон-генерал.
Премьера была отложена. Салтыков, виня в этом Сумарокова, опять и притом публично в театре накричал на него: «Я назло тебе велю играть «Синава» послезавтра!» Генерал так расходился, – он был пьян, – что выскочил на сцену во время представления вместе с Ивановой (шла какая-то комедия),- чем немало увеселил публику. Протесты Сумарокова не помогли, так же как ссылки на контракт. Сумарокову принесли афишу о представлении «Синав» на завтра – 31 января. Сумарокова поддержали актеры; даже Иванова заявляла, что играть пьесу нельзя. Из протестов ничего не вышло. 31 января премьера состоялась. Сумароков даже заболел с горя и не был в театре. Еще 28 января он отправил с оказией письмо Екатерине II с жалобой. Не дождавшись ответа, он написал ей еще одно письмо 1 февраля и при нем элегию. И письмо, и стихотворение были полны отчаяния. Екатерине письма Сумарокова передавал друг Сумарокова, секретарь царицы Козицкий. На записке Козицкого, сопровождавшей элегию, она написала: «Сумароков без ума есть и будет». Элегию Екатерина печатать не разрешила. Сумарокову же она написала ядовитое письмо, в конце которого говорилось: «Советую вам вперед не входить в подобные споры, через что сохраните спокойство духа для сочинения, и мне всегда приятнее будет видеть представление страстей в ваших драмах, нежели читать их в письмах».
Копию с этого письма Екатерина послала Салтыкову, а тот распустил списки с него по Москве. Напрасно Сумароков старался уверять, что письмо Екатерины не выговор, а милость. Над ним издевалось все московское дворянское «общество»; он был публично ошельмован; его опала стала явной. Сумароков добивался нового письма от Екатерины, но она отказалась писать ему. Между тем Сумароков, опальный, осмеянный, потерявший надежду на политический успех, впадающий в отчаяние, продолжал очень много писать и нисколько не смирился. Он убедился в том, что деспотия, тирания, со всеми ее проявлениями, возобладала и при Екатерине; и он ответил на ее торжество своими смелыми тираноборческими трагедиями, разоблачающими и самого тирана – Дмитрия Самозванца и вельможу-интригана Бурновея («Мстислав»). И все же – лирика Сумарокова последних лет характеризуется тонами пессимизма, мрачности, отчаяния.
Литературная позиция Сумарокова. И как поэт, и как теоретик литературы Сумароков завершил построение стиля классицизма в России. Основа конкретной поэтики Сумарокова – требование простоты, естественности, ясности поэтического языка, – направлена против ломоносовского «великолепия». Поэзия, построения которой добивается Сумароков, – трезвая, деловитая поэзия. Она должна говорить от лица высшего разума, и она чуждается всего фантастического и туманно-эмоционального; она должна быть отчетливой, чтобы соответствовать задаче быть формулой идеологии «разума» страны.
Сумароков хочет быть «просто» человеком, т.е. идеальным человеком и в самом строе своей речи. Он хочет вести за собой дворянство и убедить его не патетикой блеска и богатства слов, а внутренней убедительностью логики. Он не устает требовать простоты от поэта; он проповедует эту простоту в стихах и в прозе, при всяком удобном и неудобном случае, со всей страстью своего характера и со всей последовательностью пропагандиста и бойца. Так, в статье «О неестественности» он высмеивает и осуждает поэтов, которые пишут «не имея удобства подражать естества простоте... что более писатели умствуют, то более притворствуют, а чем более притворствуют, то более завираются».
Он бранит поэтов, которые «словами нас дарят, какими никогда нигде не говорят», которые составляют речь «совсем необычайну, надуту пухлостью, пущенну к небесам».
Еще в молодости, он, по свидетельству Тредиаковского, порицал поэтов, нарушающих нормы привычного синтаксиса, переставляя слова в фразе по сравнению с обычным порядком.
Сумароков противопоставлял стихи, которые «естеству противны», «сияюще в притворной красоте», полны пустого звука». «Чувствуй точно, мысли ясно, пой ты просто и согласно» - наставляет он свою ученицу в поэзии Е.В. Хераскову, витийство лишнее природе злейший враг», пишет он другому своему ученику, В.И. Майкову. «Ум здравый завсегда гнушается мечты. Коль нет во чьих стихах приличной простоты, ни ясности, ни чистоты, – Так те стихи лишены красоты и полны пустоты». Здесь особенно характерен первый из приведенных стихов: Сумароков «гнушается мечты».
«Многие говорили о архиепископе Феофане, что проповеди его не очень хороши, потому что они просты; что похвальняй естественной простоты, естеством очищенной, и что глупея сих людей, которые вне естества хитрости ищут!» –восклицает Сумароков («К несмысленным рифмо-творцам»). Он иронически советует писателям «в великолепных упражнятися одах», «ибо многие читатели, да и сами некоторые лирические стихотворцы рассуждают так, что никак невозможно, чтобы была ода и великолепна и ясна; по моему мнению, пропади такое великолепие, в котором нет ясности» (там же); здесь почти неприкрытый выпад против Ломоносова и его поэтики. Сумароков стремится к тому, чтобы спрятать весь механизм искусства от глаз читателя. Он настаивает на прямоте мысли в отношении к ее оформлению, так же, как на прямоте языковой нормы по отношению к эстетическому узору. «Языка ломать не надлежит; лучше суровое произношение, нежели странное словосоставление», – говорит он в статье «К типографским наборщикам».
С Ломоносовым Сумарокову пришлось, бороться по всем линиям его творческой программы. В ряде полемических выпадов, замаскированных и открытых, он высказывает свое отношение к ломоносовской поэтике. Он переводит отрывок из трактата Лонгина «О высоком» (с перевода Буало), выбирая именно то место, в котором осуждается «надутость», стремление «превзойти великость», «всегда сказать нечто чрезвычайно сияющее», осуждается «жар не во время», излишняя «фигурность» речи, метафоризм и т.д. – во имя «естественности».
Прямо называет Ломоносова Сумароков в примечании к переводу IV олимпической оды Пиндара; он отрицает сходство Ломоносова с Пиндаром, который «порывист», но всегда приятен и плавен:
«порывы и отрывы его [т.е. Пиндара] ни странны, ни грубы, ни пухлы... Многие наши одо-писцы не помнят того, что они поют, и вместо того говорят, рассказывают и надуваются; истребите, о музы, сей несносный вкус и дайте познавать писателям истинное красноречие и наставьте наших пиитов убегати пухлости многоглаголания, тяжких речений»... Последнее замечание относится, по-видимому, к ученикам Ломоносова, так как перевод Пиндара издан через девять лет после его смерти (1774).
Развернуто выступает Сумароков и против грамматических взглядов Ломоносова. В середине XVIII века, когда впервые строилось учение о русском языке, грамматические споры смешивались с поэтическими. И в поэтике, и в грамматике ставились вопросы образования литературного языка, вопросы о нормах языка и об оправдании этих норм. Поэты были созидателями языка, а языковеды – критиками и теоретиками поэзии. И те и другие вопросы смыкались в проблематике языковой политики и вызывали сходные споры. И Тредиаковский, и Ломоносов, и Сумароков работали как в области литературоведения, так и в области языковедения. Сумароков постоянно теснейшим образом связывает и переплетает высказывания о языке, как таковом, и о поэзии. Ожесточение, с которым Сумароков нападает на грамматику Ломоносова, понятно при учете всей борьбы его против поэтической и языковой практики его литературного противника.
Неоднократно Сумароков обращался и к непосредственному критическому разбору произведений Ломоносова. В статье, посвященной подробному анализу оды Ломоносова 1747 года, он по преимуществу останавливается на принципах словоупотребления, семантики. Сумароков последовательно осуждает всякое отклонение от привычного – по его мнению, единственно допустимого – значения слов, всякую сколько-нибудь индивидуальную метафору или даже метонимию. Для Сумарокова слово – это как бы научный термин, точно определенный; изменение его единственного значения (у Ломоносова – в интересах выразительности) расценивается Сумароковым как нарушение правильности грамматического характера; совмещение и скрещение смыслов в метафоре, с его точки зрения, – только порок против логики и языка, ибо и грамматика строилась в логическом плане. Сумароков ополчается и против сравнений, нарушающих принцип логического подобия обоих сравниваемых элементов. В той же статье Сумароков задевает и тематическую композицию разбираемой оды, осуждая перерыв в ведении темы.