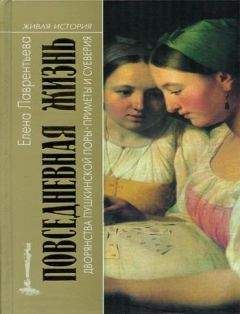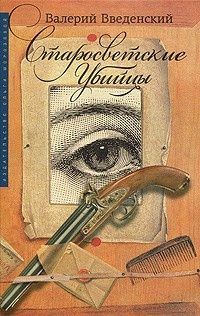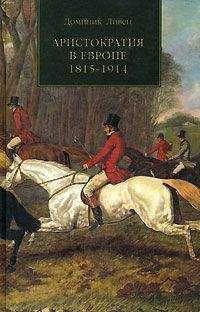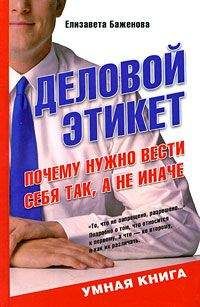Не только дамы, но и мужчины не должны были рассказывать другим о своих семейных неурядицах. Князь И. И. Барятинский в наставлениях к сыну, будущему фельдмаршалу, писал: «Если ты будешь иметь желание жениться молодым и уверенность сделать твою жену счастливой, женись: но женись хорошо!.. Старайся никогда не ссориться с нею на глазах света. Это так же смешно, как и мало деликатно в отношении к ней и к другим. Ты будешь служить предметом насмешек, и люди будут иметь на это полное право. Публичные сцены делаются басней, посмеянием злых языков, а их очень много»{26}.
«Притчей во языцах» становился тот, кто показывал себя «несносным ревнивцем», как, например, А. И. Чернышев, о котором П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Вчера простились мы… с последнею невскою зыбью, блестящим Чернышевым, который оказывал редкую деятельность и живость вдохновений в предводительстве котильоном. У него на сердце было последнее его пребывание в Варшаве с женою, в которое он ознаменовал себя смешною ревностью, и для того в нынешнее употребил он все средства свои пленять и искупить прошедшее. Le ridicule est chez nous le dot, qui donne la faveur de la cour[48]»{21}.
«Ревность! За кого вы меня принимаете, княгиня?.. Нет, я буду уметь почитать вас и себя и не дать себе ридикюль[49] — быть несносным ревнивцем», — заявляет граф Фольгин в комедии М. Н. Загоскина «…Урок волокитам»{28}.
«Самый просвещенный и благородный муж иногда может подвергаться слабостям, кои свойственны человеку и от которых он никогда совершенно не может освободиться… И так многие супруги в самых наилучших мужах могут иногда замечать подобные слабости. В таком случае не должны они вдруг сетовать, жаловаться, унывать и отчаиваться»{29}.
Примечательную характеристику А. Г. Муравьевой, оставившей детей на попечение родных и последовавшей за мужем-декабристом в Сибирь, дает ссыльный А. Е. Розен: «Мужу своему показывала себя спокойною, даже радостною, чтобы не опечалить его, а наедине предавалась чувствам матери самой нежной»{30}.
Родители не позволяли себе бурно выражать негодование по отношению к детям: «…и хотя знатная особа не менее своих детей должна любить, как и женщина низкого состояния любит своих; однако первая должна отличать себя в поступках и избегать грубостей, в чем женщины низкого состояния могут быть извинительнее»{31}.
«Аристократическая дрессировка женщин тем и хороша, что если они и сердятся, то и тогда сохраняют изящество и никогда не возмутят тебя резкими выходками, к которым я питаю непреодолимое отвращение, и жить вместе с такой женщиной для меня немыслимо», — признавался И. С. Тургенев{32}.
Светский человек не снизойдет до проявления раздражительности и нетерпения. Когда умер князь В. Ф. Одоевский, С. А. Соболевский сказал: «Сорок лет сряду я старался вывести этого человека из терпения, и ни разу мне не удалось…» По словам В. А. Соллогуба, «таков был глава русского родового аристократизма».
Чувство юмора не покидало представителей «родового аристократизма» даже в самые трудные минуты. Когда декабристу М. Лунину «прочитали приговор о ссылке "на вечность", он фыркнул: "Хороша вечность — мне уже за пятьдесят лет". Когда генерал-губернатор в Финляндии, осматривая крепость, в которой он сидел под сырыми, потными сводами, спросил, не нуждается ли он в чем-нибудь, он ответил, что ни в чем не нуждается, кроме зонтика»{33}.
«Истинный аристократ» снисходителен к проявлению чужих слабостей. Оказавшись их невольным свидетелем, он старается остаться незамеченным.
«Отец всегда с особой нежностью вспоминал о своем старшем брате Николае, умершем в I860 году от чахотки, — пишет в «Очерках былого» сын Л. Н. Толстого. — …Отец рассказывал один забавный случай, показывающий щепетильность Николая Николаевича. Однажды он приехал к нему в его имение Никольское-Вяземское и не застал дома; брат был в яблоневом саду. Отец пошел в сад и видит: Николенька тихо сидит под яблоней и делает брату знаки, чтобы он молчал.
— Тсс, потише!
— Что ты здесь делаешь? — шепотом спросил отец.
— Тише, я смотрю, как поп Аким таскает яблоки из моего сада.
Оказалось, что отец Аким, молодой священник, только что выпущенный из бурсы, перелез через забор барского сада и, оглядываясь и не видя сторожа, набивал себе карманы яблоками. А хозяин сада смотрел и боялся одного: как бы поп Аким не заметил, что он его видит»{34}.
Подобную историю рассказывает в «Воспоминаниях» Л. Н. Толстой. Речь в ней идет об отце писателя: «Самые же приятные мои воспоминания о нем — это его сиденье с бабушкой на диване и помогание ей раскладыванья пасьянса… Помню раз в середине пасьянса и чтения отец останавливает читающую тетушку, указывает в зеркало и шепчет что-то.
Мы все смотрим туда же.
Это официант Тихон, зная, что отец в гостиной, идет к нему в кабинет брать его табак из большой складывающейся розанчиком кожаной табачницы. Отец видит его в зеркало и смеется на его на цыпочках осторожно шагающую фигуру
Тетушки смеются. Бабушка долго не понимает, а когда понимает — радостно улыбается»{35}.
Одно из правил «кодекса светских приличий» — «не ставить другого в неловкую ситуацию». Приведем характерный пример из «Записок» С. Г. Волконского: «Восторженный наполеоновым бытом в истории, я возымел желание иметь полное собрание всех его портретов, начиная от осады Тулона и до отречения в Фонтенбло, и известный книгопродавец Арторио мне это собрал… Коллекция этих портретов, переплетенная в книге инфолио, была дана мною временно на сохранение командору Лобанову, но он, вероятно, мысля, что я не возвращусь из Сибири, почел ее своею собственностью. Продал ли он ее в числе своей библиотеки или оставил у себя, не знаю, и хотя на водах в 1859 году и встречался с ним, от него ни полслова об этом, а я не упоминал ему об этом, чтоб его не затруднять ответом»{36}.
Другое правило «кодекса» — самому избегать неловких ситуаций. Попадая в неловкую или смешную ситуацию, светский человек старается скрыть свое смущение под маской улыбки или невозмутимости. Забавную историю в связи с этим рассказывает в своих воспоминаниях Д. Свербеев:
«У Новиковых-Долгоруких зимние забавы заменились тогда горелками, хороводами, качелями и всевозможными летними играми то на обширном дворе, то на полугоре перед главным фасадом дома с красивым видом на Москву-реку… На одном из таких вечеров, чуть ли для меня не последнем, здоровенный Загоскин вздумал перед нами и на нас пробовать свою силу, бороться, перепрыгивать, подымать тяжести и т. д. Меня он уговорил, и я имел глупость его послушаться, стать обеими ногами на каменную тумбу подъезда с тем, чтобы ему, взяв меня за ноги, пронести в вертикальном положении до известного расстояния, на границе которого стала Варвара Ивановна. Загоскин поднял меня очень ловко, но на половине дороги бросил на землю и сам повалился на колени, я же упал плашмя. Все перепугались, бросились ко мне. Громким хохотом успокоил я тотчас публику, но не находил возможности стать на ноги: летние мои панталоны поперек совсем лопнули и спустились, а я был во фраке. Старый князь разразился хохотом, и насилу-то убедил я его пригласить от себя прекрасный пол удалиться в комнаты. Меня посадили в коляску, дали хламиду и отправили домой, чтобы переодеться и, воротясь, заключить прощальный вечер»{37}.
Громкий хохот, может быть, и противоречил правилам хорошего тона, но в остальном поведение рассказчика вызвало бы одобрение знатоков светского этикета. В менее приглядном положении оказалась героиня другого сюжета, также связанного с «падением»: «Двор оставался в Царском до глубокой осени, и нас приглашали от времени до времени и на маленькие вечера, — рассказывает М. Паткуль. — В один из таких вечеров великие княжны предложили… кататься с деревянной горы, которая находилась в одной из комнат Александровского дворца… Видя, что это не так страшно, как мне казалось, я решилась скатиться одна. Два раза сошло благополучно, а в третий раз посреди горы платье мое за что-то зацепилось, и я грохнулась навзничь во весь рост. Саша и все присутствующие бросились поднимать меня, локоть был в крови, слезы навернулись на глазах не от боли, а от испуга и стыда, что я выказала себя такой неловкой»{37}.
О том, как ценилось умение человека с достоинством выходить из неловкой ситуации, читаем в романе В. Мещерского «Женщины из петербургского большого света»: