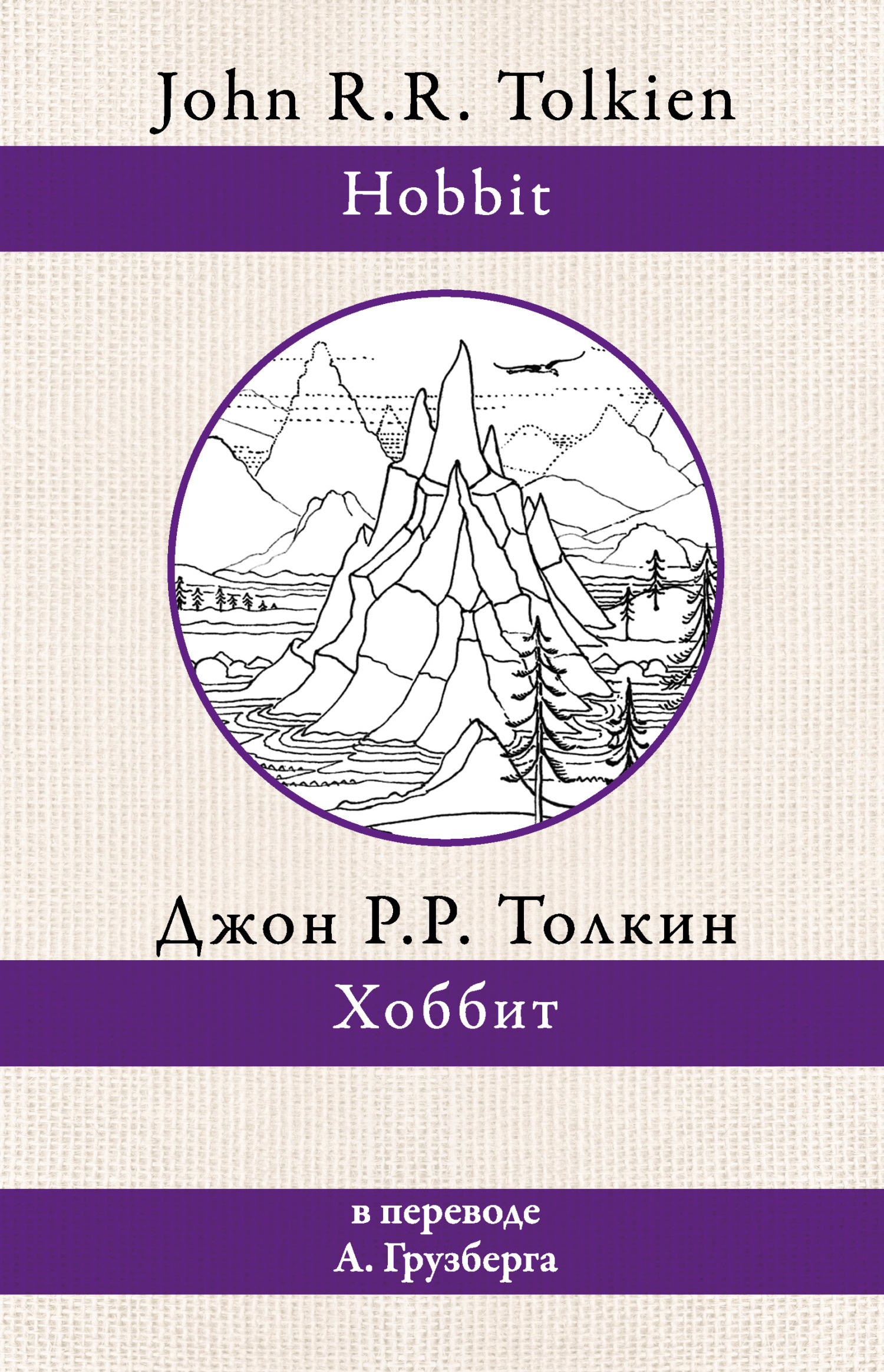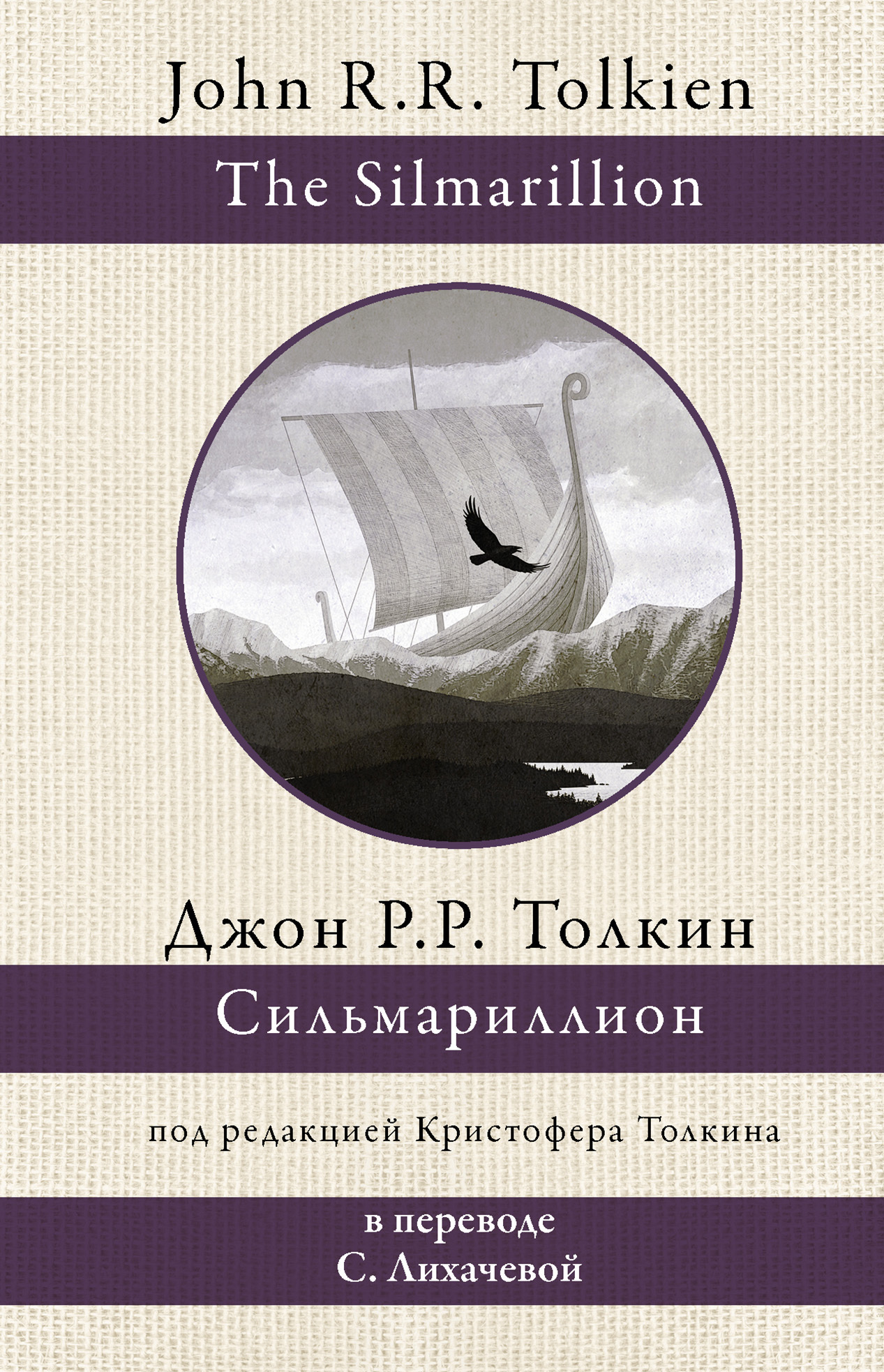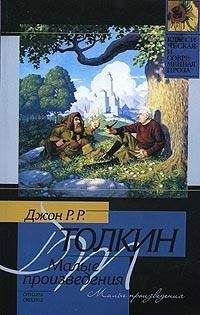Это, впрочем, недавно и, возможно, случайно появившийся аспект сказочного Побега. Правда, мы находим его и в сказках, и в рыцарских романах, и в других древних произведениях или произведениях о древности. Но многие из древних историй стали «эскапистскими» по своему звучанию только потому, что дошли до нас из времени, когда люди чаще всего были в восторге от творений своих рук, тогда как сейчас многие чувствуют отвращение к новым созданиям человека.
Однако есть другие, более глубокие аспекты Побега, всегда существовавшие в волшебных сказках и легендах. Есть вещи, от которых хочется бежать, более мрачные и ужасные, чем шум, вонь, безжалостность и экстравагантность двигателя внутреннего сгорания. На свете есть голод, жажда, нищета, боль, скорбь, несправедливость, смерть. И даже когда люди сталкиваются с этими несчастьями, существуют древние ограничения, которые в какой-то мере помогает обойти сказка, и старые желания и стремления (соприкасающиеся с самыми корнями Фантазии), которые она может по-своему удовлетворить и успокоить. Некоторые из них — просто странности и простительные слабости: например, желание плавать в глубинах моря свободно, как рыба, или стремление к бесшумному, грациозному, экономичному птичьему полету. Полет аэроплана — только подделка, поэтому человеческое желание летать как птица он удовлетворяет лишь изредка, когда смотришь с земли на самолет, парящий на огромной высоте: шум винтов заглушен свистом ветра, солнце ярко блестит на крыльях... Но это, в общем-то, уже воображаемый самолет, а не механизм для перелета на дальние расстояния. Есть желания и более глубокие, например, общаться с другими живыми существами. Это желание, такое же древнее, как Грехопадение, во многом породило мотив говорящих животных и других созданий в сказках и в особенности волшебную способность человека понимать их собственные языки. Именно здесь — корни этого мотива, а вовсе не в «заблуждениях», приписываемых первобытному сознанию, когда человек якобы «не отделял себя от зверей» [см. примечание Ж]. Уже в глубокой древности отчетливо ощущалось отличие человека от животного. Но было и чувство, что это отличие — результат разрыва связей, и только мы несем груз вины за свою странную судьбу. Другие существа — как другие страны, с которыми человек разорвал отношения и видит их теперь только издалека, находясь с ними в состоянии войны или тревожного перемирия. Кое-кому из людей дарована привилегия совершать небольшие путешествия за границу; остальные поневоле довольствуются рассказами путешественников. Даже о лягушках приходится слышать из чужих уст. Говоря о довольно странной, но широко распространенной сказке «Король-лягушонок», Макс Мюллер вопрошал своим обычным чопорным тоном: «Как могла появиться на свет такая сказка? Можно надеяться, что люди во все века были достаточно просвещенными, чтобы понимать: женитьба лягушонка на королевской дочери — абсурд». Действительно, надеяться на это можно! Если бы было не так, сказка оказалась бы бессмысленной, так как она по сути дела основана на чувстве абсурдного. Фольклорное происхождение (или догадка о нем) здесь совершенно ни при чем. Фактически бесполезно говорить и о тотемизме. Ведь ясно: какие бы обычаи и верования, касающиеся лягушек и колодцев, ни лежали в основе этой сказки, лягушачий облик в ней [56] сохраняется именно потому, что он совершенно не к месту, а женитьба абсурдна, даже отвратительна. Хотя, конечно, в вариантах, которые нас интересуют, — гэльских, немецких, английских — принцесса выходит замуж вовсе не за лягушонка: лягушонок — это заколдованный принц. А смысл сказки не в том, что лягушек можно считать подходящими супругами для людей, а в том, что необходимо держать слово, даже если это влечет за собой невыносимые страдания. Это требование, а также требование блюсти запреты действуют в Стране Фей повсеместно. Это одна из мелодий, которые играют эльфийские рога, — мелодия громкая и отчетливая.
И, наконец, существует самое древнее и глубокое желание — осуществить Великий Побег, Побег от Смерти. В сказках есть много примеров и способов этого Побега, — можно сказать, здесь присутствует истинно эскапистский дух или, я бы сказал, дух блаженства. Но подобные примеры и способы мы находим и в несказочной литературе (особенно навеянной наукой), и в научных и философских исследованиях. Сказки создают люди, а не феи. В эльфийских рассказах о людях наверняка часто говорится о Побеге от Бессмертия, но нельзя ожидать, чтобы все наши рассказы поднялись до эльфийского уровня. Все же это часто случается. Сказки немногое рисуют так ярко, как тяжкую ношу бессмертия или, скорее, бесконечно повторяющегося жизненного цикла, к которому стремится «беженец». С давних пор и до наших дней сказка в особенности стремится преподать этот урок. Тема смерти, например, больше всего вдохновляла Джорджа Макдональда.
Но воображаемое удовлетворение древних желаний — не единственный аспект Утешения, которое дают волшебные сказки. Гораздо важнее Утешение Счастливой Концовки. Я даже рискнул бы утверждать, что в настоящей сказке счастливая концовка обязательна. Во всяком случае, скажу следующее: трагедия — истинная форма драмы, наивысшая реализация ее возможностей; для сказки же справедливо обратное утверждение. Поскольку соответствующего термина у нас, кажется, нет, я обозначу это «обратное» словом «эвкатастрофа» (от древнегреч. eu — хорошо и katastrophē — переворот, развязка). Эвкатастрофическое повествование — истинная форма сказки, наивысшая реализация ее возможностей.
Сказочное Утешение, радость от счастливой концовки — или, точнее, счастливой развязки, нежданного радостного «поворота», ибо сказки никогда по-настоящему не кончаются [см. примечание З],— вот одно из благ, которыми волшебная сказка особенно щедро оделяет людей. По сути своей это не радость Побега, не радость «беженца». В сказочном оформлении, в обрамлении Другого Мира эта радость — неожиданно и чудесно снизошедшая благодать, которая, может быть, больше никогда не возвратится. Она не отрицает существования «дискатастроф» (несчастных развязок), скорби и несбывшихся надежд: ведь без них невозможна радость избавления. Но она отрицает (если хотите, вопреки множеству фактов) всеохватное окончательное поражение и в этом смысле является евангелием (благой вестью), дающим мимолетное ощущение Радости вне стен этого мира — Радости острой, как горе.
Хорошая волшебная сказка тем и отличается, что о каких бы невероятных и ужасных событиях и приключениях она ни рассказывала,— когда наступает «поворот», и у детей, и у взрослых перехватывает дыхание, сильнее бьется сердце, а на глаза наворачиваются слезы. Силой эмоционального воздействия она не уступает другим литературным жанрам, причем это особое воздействие, характерное именно для сказки.
Иногда даже современные сказки достигают этого эффекта. Сделать это нелегко: он зависит от всей сказки целиком, а не только от одного поворота, но зато и сам озаряет своим блеском всю сказку. Если эффект хотя бы частично достигнут, значит, сказочника не постиг провал, пусть даже его создание изобилует недостатками и путаницей. Вот, к примеру, отнюдь не блестящая во многих отношениях сказка Эндрю Лэнга «Принц Зазнайо». Когда мы читаем: «...Каждый рыцарь по очереди оживал вместе со своим конем и кричал, потрясая мечом: „Да здравствует принц Зазнайо!”» — в нашей радости есть особый привкус, роднящий сказку с мифом. Дело не в самом описанном событии, а в том, что оно в сказочно-фантастическом отношении более серьезно, чем все остальное в «Принце Зазнайо». В целом эта сказка, скорее, легкомысленна, у нее на губах играет насмешливая улыбка галантной, изысканной conte (французской сказки). Если бы в «Принце Зазнайо» не было контраста между легкомыслием сказки и серьезностью «поворота», не было бы и «привкуса мифа» [57]. Еще более ощутимое и мощное воздействие оказывает полностью серьезный рассказ о Феерии [58]. В таких сказках, когда наступает неожиданный «поворот», ткань повествования словно взрывается, наружу устремляется сияние — и нас пронзает радость, будто исполнились все заветные желания.