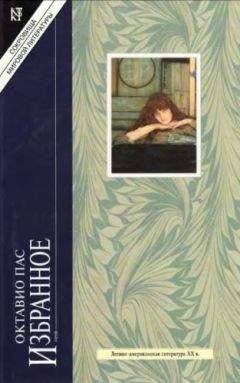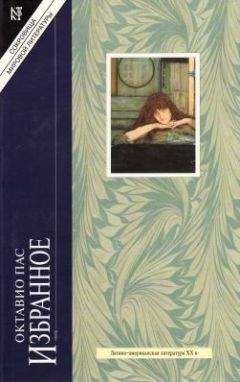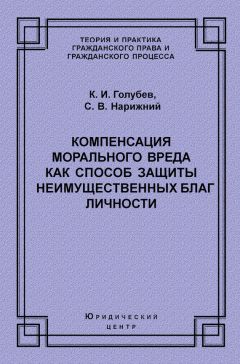День всех святых, праздник мертвых[71]
Мой необщительный соотечественник любит праздничные даты и людные места. Главное — собраться. По какому поводу — неважно. Только бы разорвать круговорот дней и увековечить героя или событие сборищем, шествием, а повод всегда найдется. Мы — народ обрядоверцев. Без этого не было бы ни нашего воображения, ни впечатлительности, которые отточены за века и в любую минуту наготове. Едва ли не всюду пришедшее в упадок, в наших краях Искусство Праздника лелеют и поныне. Вряд ли где еще в мире удастся оказаться в гуще такого зрелища, как главные религиозные празднества в Мехико с их бьющими в глаза пронзительными и чистыми красками, их танцами, шествиями, фейерверками, диковинными нарядами и неисчерпаемым водопадом немыслимых плодов, сластей и всего, чем бойко торгуют в такие дни на перекрестках и базарах столицы.
Наш календарь битком набит праздниками. В назначенные дни повсеместно — от самых глухих селений до гигантских городов — молятся, вопят, едят до отвала, напиваются до чертиков и отправляют друг дружку на тот свет именем Богородицы Гвадалупской{223} или генерала Сарагосы{224}. Каждый год пятнадцатого сентября за час до полуночи на всех площадях Мексики начинается празднество Всенародного Клича{225}, и взбудораженные толпы битый час истощают энергию в общем крике, чтобы, может быть, еще глуше замолчать на весь оставшийся год. Накануне и после двенадцатого декабря время замедляет бег, останавливается и, больше не подталкивая к недостижимому и неверному завтрашнему дню, предстает в образе завершенного и безупречного дня нынешнего — дня плясок и пиров, сопричастности и приобщения к самому истоку и тайне всего мексиканского. Время теперь уже не вереница сменяющих друг друга минут и часов, а то, чем оно всегда было и остается: вечно настоящее, в котором наконец слились прошлое и будущее.
Но общими праздниками в честь Церкви и Республики дело не ограничивается. Жизнью любого города и любой деревушки заправляет святой покровитель, которого чествуют истово и регулярно. Свои годовщины, обряды и празднества есть у ремесел и кварталов. В конце концов, свой ежегодно прославляемый святой сопровождает каждого из нас — атеиста, католика или просто равнодушного. Праздничные дни и растрачиваемые на них средства и время не поддаются исчислению.
Помню, несколько лет назад я разговорился с городским головой поселка неподалеку от Митлы{226}: «Сколько поступает к вам в бюджет за счет налогов?» — «Тысячи три в год. Мы люди бедные. Поэтому господин губернатор и федеральные власти всякий раз и помогают нам свести концы с концами». — «А на что же идут эти три тысячи песо?» — «Да почти целиком на праздники. Поселок наш небольшой, но у нас два собственных святых».
Ничего удивительного тут нет. Нашу нищету можно измерить именно количеством и пышностью публичных празднеств. В богатых странах их куда меньше: нет ни времени, ни настроения. Да и потребности особой не возникает: людям здесь есть чем заняться, а развлекаются они, как правило, в кругу своих. Современные массы — это скопления одиночек. Если публика Парижа или Нью-Йорка в редких случаях и теснится на площадях и стадионах, то сразу бросается в глаза отсутствие народа; перед нами — парочки, группки, но не живое множество, в котором единица растворяется и вместе с тем находит освобождение. Как моему бедному соотечественнику выжить без этих двух-трех праздников в год — единственного воздаяния за глухую и нищую жизнь? Празднества — наша единственная отрада; они с успехом заменяют нам премьеры и каникулы, уик-энды и коктейли англосаксов, буржуазные приемы и средиземноморские кафе.
В обрядах — общенациональных, местных, цеховых, семейных — мои соотечественники раскрываются навстречу миру. Это случай проявить себя и встретиться с божеством, родиной, друзьями, близкими.
Обычно тихий мексиканец в такие дни свистит, горланит, поет, взрывает хлопушки, палит в воздух. Словом, разряжается. И его крик, как наши любимые шутихи, взмывает к небу, вспыхивает зеленым, красным, синим, белым дождем и, кружась, падает на землю, волоча хвост золотящихся искр. В такую ночь друзья, месяцами не обменивавшиеся и словечком сверх обычных вежливых фраз, бражничают вдвоем, открывают друг другу душу, плачут об общих бедах, клянутся в братских чувствах и — в подтверждение их — нередко хватаются за ножи. От пения и галдежа ночь ходит ходуном. Влюбленные будят подруг оркестрами. Реплики и шутки летят от балкона к балкону, с тротуара на тротуар. В воздухе парят шляпы. Издевки и брань сыплются полновесным серебром. Звенят гитары. Бывает, веселье кончается плохо — ссорой, оскорблениями, перестрелкой, поножовщиной. Но это тоже часть праздника. Мы ведь здесь не развлекаемся, а силимся перешагнуть через себя, выскочить из одиночества, в котором замурованы весь год. Бешенство и озлобление клокочут в каждом. Души взрывчаты, словно краски, голоса, чувства. Пытаемся забыться? Ищем свое истинное лицо? Кто знает. Главное — выйти, шагнуть, охмелеть от гама, людей, пестроты. Праздник всюду. И со всем своим салютом и хмелем этот праздник — сверкающая изнанка нашего молчания и безволия, замкнутости и вражды.
Некоторые французские социологи{227} видят в празднике ритуал расточительства. Разбазаривая нажитое, сообщество хранит себя от небесной и земной зависти. Жертвоприношения и дары должны умилостивить или подкупить богов и святых покровителей, подарки и празднества — соседей. Непомерность трат и расточение сил утверждают богатство сообщества. Эта роскошь — знак здоровья, доказательство изобилия и мощи. Или магическая западня. Показное расточительство должно — по закону заражения — приманить подлинное изобилие. Деньги — к деньгам. Брызжущая жизнь придает себе еще больше жизни; оргия, сексуальная растрата — это еще и церемония коллективного возрождения: чем больше ты отдаешь, тем сильнее становишься. Обряды, связанные в любой культуре с завершением года, — это не просто празднование памятной даты. Этот день своего рода перерыв, когда время как бы приходит к концу, истощается. И обряды, прославляющие его конец, должны вызвать возрождение. Праздник окончания года — это и праздник года нового, праздник начала времен. Противоположности притягиваются. В итоге праздник куда полезней, чем думают. Ведь трата вызывает или приманивает изобилие и она есть лишь его обратная сторона. Только здесь не выгадывают и не считают барышей, ведь речь — о возвращении сил, жизни, здоровья. В этом смысле праздник — наряду с дарами и жертвой — одна из древнейших форм экономической деятельности.
Такой подход всегда казался мне слишком узким. В рамках сакрального миропорядка праздник есть прежде всего явление небывалого. Здесь другие, исключительные законы, которые отделяют от обыденности, задают особый тон. А стало быть, другие тут и логика, мораль, даже экономика: они ставят повседневность с ног на голову. Мы в зачарованном мире. Здесь иное время (либо мифическое прошлое, либо вечно настоящее); пространство преображено, выделено из мира, украшено и обращено в «место празднества» (как правило, особое или малопосещаемое); участники забыли свои места в семье и обществе, став живыми, хоть и мимолетными, образами священного. И все происходит понарошку, словно во сне. Будь что будет, мы раскрепощаемся, сбрасываем груз земного тяготения; у каждого здесь свое место и особая роль и всякий свободен от гнета времени и рассудка.
Иные праздники отменяют само понятие порядка. Возвращается хаос, царит произвол. Все разрешено: нет привычной иерархии, стерты различия по социальному положению, полу, классу, цеху. Мужчины переодеты женщинами, господа — слугами, бедняки — богачами. Над военным, священником, чиновником потешаются. Правят дети или безумцы. Все предаются ритуальному осквернению, непременному святотатству. Любовь обращается в свальный грех. Праздник перерастает в черную мессу. Правила, обычаи, привычки рушатся. Уважаемый господин сбрасывает привычную личину, темный костюм и накидывает пестрый наряд, пряча лицо под маской, освобождающей от надоевшего себя.
Праздник — не простое расточительство, ритуальное разбазаривание накопленного трудами за год. Это еще и поворот, нырок в хаос, в саму стихию жизни. В ходе праздника общество высвобождается из навязанных норм, смеется над своими богами, началами и законами — короче, упраздняет само себя.
Праздник — это в буквальном смысле слова поворот. В наступившей смуте общество растворяется, тонет, теряет свойства особого организма, живущего по принципам и правилам. Но тонет опять-таки в себе самом, своем же первородном хаосе, своей первозданной свободе. Все — во всем: добро и зло, ночь и день, святое и прóклятое смешались. Все входит друг в друга, теряет черты, особенности, возвращается в первичную массу. Праздник — космическое действо, опыт беспорядка, слияния противоборствующих стихий и начал ради новой жизни. Так, ритуальная смерть пробуждает силы воскресения, обжорство — аппетит, разгул — сам по себе вполне безгрешный — плодовитость женского или земного лона. Праздник — это возврат к исходному состоянию нераздельности, будь то предродовому или досоциальному. Возврат, который — по внутренней логике социального — есть вместе с тем начало.