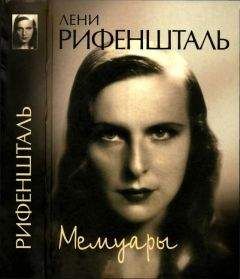То же самое говорил мне и Арнольд Фанк.
— Важна оперативность, а не качество, — продолжил министр.
Я ответила:
— Это для хроники, а фильм об Олимпиаде должен стать художественной картиной, которая и спустя годы не потеряет своей ценности. Чтобы достичь нужного эффекта, необходимо снять несколько сотен тысяч метров пленки, рассортировать отснятый материал, смонтировать и озвучить его. Это кропотливый и тяжелый труд, и даже я сама не уверена в успехе. Возможно, вы правы, доктор, мне еще нужно подумать. Быть может, я откажусь от этой затеи.
— Хорошо, — сказал министр, — прошу сообщить о вашем окончательном решении.
После этого разговора я была близка к тому, чтобы не подписывать договор с «Тобис-фильмом», текст которого уже успела получить. Риск представлялся все же слишком большим — сказались и доводы Геббельса.
И все же фильм уже поймал меня в свои сети. Я перечитала всю литературу об Олимпийских играх, какую только смогла отыскать, и ломала себе голову, как воплотить в жизнь мой проект. По правде говоря, эта затея была безнадежно нереальной, даже если показать лишь половину состязаний. А ведь сюда еще не входили предварительные и промежуточные забеги, в которых часто показываются более высокие спортивные результаты и которые могут протекать более драматично, чем финал. Если на каждую дисциплину отвести всего по 100 смонтированных метров, то при 136 соревнованиях в сумме получилось бы 13 600 метров пленки — длина, достаточная для пяти полнометражных фильмов. И в это количество еще многое не входило, например, пролог, доставка олимпийского огня, фестиваль танца, рассказ о жизни в Олимпийской деревне, торжественное открытие и закрытие Игр. Фанк не намного ошибся в расчетах времени. Ясно одно: так снимать фильм нельзя. Нужно было отбирать, сортировать, расставлять акценты, показывать самое важное и отказываться от несущественного. Но как мне знать заранее, что окажется важным или несущественным и в каком предварительном забеге, возможно, будет установлен мировой рекорд? Это означало, что нужно снимать почти всё и со всех точек, какие только будут возможны. А потом — рабский труд в монтажной при отборе отснятого.
Проблемой стало не только обилие соревнований. Необходимо было также познакомиться с каждым отдельным видом спорта и придумать, каким образом можно получить самые эффективные кадры. Несмотря на всякого рода сомнения, через несколько недель я была наконец готова сказать: «Да».
Теперь мне нужно было уведомить Геббельса. Мое решение его не обрадовало, и он предупредил меня о финансовом риске. Я попыталась убедить его в том, что гарантированной «Тобисом» суммы достаточно, так как не придется платить ни актером, ни за аренду павильонов, как это бывает при производстве художественного фильма.
— Неужели вы действительно считаете, что публика проявит интерес спустя год или два? — спросил скептически Геббельс. — Да к тому же еще и двухсерийный? Эта идея мне не нравится.
— Другого решения нет. Если даже я захочу показать только самое важное, без двух серий мне не обойтись.
Геббельс заметил саркастически:
— Тогда я пожелаю вам удачи в этой авантюре и сообщу людям в моем министерстве о вашем проекте.
На этом разговор был закончен.
Однако вскоре мне снова пришлось обратиться к Геббельсу, как бы неприятно мне это ни было. На сей раз речь шла не о моих делах, а о Вилли Цильке,[238] гениальном кинорежиссере, и о его фильме «Стальной зверь», который был снят по заказу Германской государственной железной дороги к ее столетнему юбилею.
Когда я посмотрела этот фильм в первый раз, у меня перехватило дыхание. Грандиозная изобразительная симфония, какой мне не довелось видеть со времен «Броненосца Потемкина». Содержание фильма — столетняя история железной дороги, судьбы ее изобретателей и ее развитие — от старейшей паровой машины до современного локомотива. Из этого «хрупкого» материала Цильке создал увлекательный фильм. Его локомотив казался ожившим чудовищем. Фары паровоза были глазами, приборная панель — мозгом, поршни — суставами, а капающее машинное масло казалось кровью. Это впечатление еще более усиливал революционный звукомонтаж.
Когда господа из Управления государственной железной дороги смотрели фильм, то, как рассказывал мне Цильке, пришли в ужас и молча покинули просмотровый зал. Их негодование было столь велико, что они решили не только запретить демонстрацию фильма, но и обязать режиссера уничтожить все копии и даже исходные негативы. Возмутились они потому, что эта картина не имела ничего общего с их представлением. Они хотели видеть движущуюся открыткуприглашение примерно такого содержания: «С охотой и превеликим удовольствием прокатитесь по железной дороге». Для подобных съемок следовало пригласить консервативного режиссера, а не Вилли Цильке, который своим революционным искусством на десятилетия опережал тогдашнее кино. В фильме Цильке вагоны при сортировке сталкивались друг с другом с таким грохотом, что зрителей буквально срывало с мест. Для Управления железной дороги это был форменный шок: поездки должны выглядеть спокойными и приятными.
Цильке был ужасно несчастен. Он целый год одержимо работал над фильмом, и вот теперь всё это — напрасный труд и его детище должно быть уничтожено. Я хотела попытаться предотвратить эту чудовищную несправедливость и, при необходимости, сражаться за фильм, как за собственный. К счастью, перед уничтожением исходных негативов мне удалось приобрести копию для моего архива.
Итак, пришлось снова идти в пещеру льва. Никто, кроме министра Геббельса, шефа киноиндустрии Германии, не мог предотвратить исполнение объявленного приговора. Я надеялась, что он сможет оценить художественные достоинства картины Цильке и запретить ее уничтожение. Его секретарь назвал мне время просмотра.
Когда я вечером явилась во дворец принца Карла на Вильгельмсплац — официальную резиденцию министра, то была неприятно удивлена тем, что никого, кроме одной знакомой актрисы, здесь не встретила. Помещения были обставлены с поразительной роскошью. Я вспомнила, какое на меня произвело впечатление, когда Геббельс, гауляйтер Берлина, во время предвыборной кампании пообещал народу, что «ни один министр после прихода к власти не будет получать больше тысячи марок в месяц». Какая ирония! Геббельс, став теперь сам министром, не боялся открыто подражать роскошной жизни своего личного врага Геринга.
Геббельс в этот вечер был в наилучшем настроении, то же самое можно сказать и о его подруге-актрисе. Предложили фруктовый сок и шампанское. Войдя в большое помещение, где должен был демонстрироваться фильм, мы сели на широкий диван. Любовница министра расположилась на некотором удалении от меня, без стеснения прильнув к его плечу.
Когда свет погас и начался показ, оба, не глядя на экран, продолжали болтать. Фильм они почти не смотрели. Меня стало одолевать беспокойство. Дальше и того хуже. Актриса начала делать пренебрежительные замечания, в особенно интересных местах глупо хихикала, а время от времени совершенно без причины разражалась громким хохотом. На Геббельса, к которому она обращалась на «ты» и без обиняков называла Юппом, это действовало возбуждающе. Я была в отчаянии.
Когда зажегся свет, министр сказал:
— Если принять во внимание, как во время просмотра реагировала эта дама, то и публика отвергнет картину. Признаю, — продолжал он, — что режиссер талантлив, но для массового зрителя фильм непонятен, слишком модернистский и слишком абстрактный, это мог бы быть и большевистский фильм, а уж в этом-то Управление железной дороги никак не заподозришь.
— Но это еще не повод для уничтожения ленты. Это произведение искусства, — парировала я взволнованно.
— Сожалею, фройляйн Рифеншталь, — возразил Геббельс, — но решение принимает только Государственная железная дорога, которая финансировала фильм. Мне тут не хотелось бы вмешиваться.
Картине Цильке тем самым был вынесен смертный приговор.
Я с детства хотела жить в собственном доме. И наконец-то всерьез стала подумывать о реализации своей мечты. В берлинском районе Далем я подыскала подходящий участок земли, он располагался в удобном месте, всего в десяти минутах езды на машине от Курфюрстендамм и тем не менее прямо в лесу.
Я набросала чертежи и, желая посмотреть дома, отправилась в путешествие по Германии. Как горячая поклонница гор, остановила свой выбор на проектах гармишского архитектора Ганса Остлера. Его макеты произвели на меня столь сильное впечатление, что я поручила ему и его партнеру архитектору Максу Отту построить дом в Далеме. Еще в ходе строительства я начала подготовительные работы к фильму об Олимпиаде. Но перед тем мне захотелось еще раз расслабиться на скалолазании. Проводником я выбрала швейцарца Германа Штойри. Он жил в Г ринд ельвальд е. Мы встретились в Боцене и в качестве первой вылазки решили предпринять штурм Фиолетовых башен. На этом маршруте есть одно трудное место, трещина Винклера, где перед этим погибло девять человек. Не повезло и нам. В этой трещине Штойри вывихнул правую руку. Ситуация критическая. Я и по сей день не понимаю, как в столь опасном месте он смог вправить себе вывихнутую руку, но ему это удалось, и он еще подстраховывал меня на оставшейся части подъема. После преодоления трех «башен», по кромке Делаго мы в несколько подавленном настроении спустились по канату.