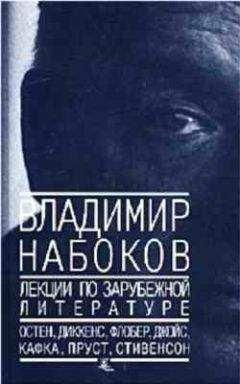Живописные эффекты лунного света меняются вместе с эпохой и писателем. Между сочинившим приведенное описание около 1910 года Прустом и Гоголем, написавшим «Мертвые души» в 1840-м, есть сходство. Но у Пруста система метафор усложнена, и она — поэзия, а не гротеск. Описывая лунный сад, и Гоголь прибегнул бы к роскошной образности, но его заплетающиеся сравнения свернули бы на дорогу гротескных гипербол с привкусом иррациональной бессмыслицы. Он, скажем, сравнил бы лунный свет с бельем, упавшим с веревки, как он и делает где-то в «Мертвых душах»; но здесь он бы свернул в сторону и сказал, что пятна света на земле походили на простыни и рубахи, которые сбросил и разметал ветер, пока прачка покойно спала, и снились ей мыльная пена, крахмал и чудная новая сорочка, что купила себе невестка. В случае же Пруста примечательно прежде всего смещение от идеи бледного света к идее дальней музыки — зрение перетекает в слух.
Был, правда, предшественник и у Пруста. Во второй главе третьей части второго тома «Войны и мира» Толстого князь Андрей ночует в имении у знакомого, графа Ростова. Ему не спится. «Князь Андрей встал и подошел к окну, чтобы отворить его. Как только он открыл ставни, лунный свет, как будто он настороже у окна давно ждал этого, ворвался в комнату. Он отворил окно. Ночь была свежая и неподвижно-светлая. Перед самым окном был ряд подстриженных дерев, черных с одной и серебристо-освещенных с другой стороны. <…> Далее за черными деревами была какая-то блестящая росой крыша, правее большое кудрявое дерево с ярко-белым стволом и сучьями, и выше его почти полная луна на светлом, почти беззвездном весеннем небе».
В комнатах наверху он услышал два женских голоса, повторявших какую-то музыкальную фразу. Он сразу узнал голос Наташи Ростовой. Немного погодя Наташа «высунулась в окно, потому что слышно было шуршанье ее платья и даже дыханье. Все затихло и окаменело, как и луна и ее свет и тени».
Пруст предугадан у Толстого в трех пунктах:
1. Застывший в ожидании, лежащий в засаде лунный свет (трогательное заблуждение). Красота, ласковое существо, готовое ринуться к тебе, как только его заметишь.
2. Отчетливость картины, твердой рукой травленный в черни и серебре пейзаж, без банальных фраз и заемных лун. Все подлинно, неподдельно, прочувствованно.
3. Тесная связь видимого и слышимого, отблесков и отголосков, зрения и слуха.
Сравните эти пункты с развитием образа у Пруста. Обратите внимание на тщательную отделку лунного света, на тени, выдвинутые вперед, к свету, словно ящики из комода, на отдаленность, на музыку.
Разные слои и уровни смысла в метафорах самого Пруста любопытным образом проясняются в описании метода, каким его бабушка выбирала подарки. (Первый слой.) «Ей очень хотелось, чтобы в моей комнате висели фотографии старинных зданий и красивых пейзажей. Но, хотя бы изображаемое на них имело эстетическую ценность, она, совершая покупку, находила, что механический способ репродукции, фотография, в очень сильной степени придает вещам пошловатую, утилитарную окраску. (Второй слой.) Она пускалась на хитрости и пыталась если не вовсе изгнать коммерческую банальность, то, по крайней мере, свести ее к минимуму, заменить ее в большей своей части художественным элементом, ввести в приобретаемую ею репродукцию как бы несколько «слоев» искусства: она осведомлялась у Свана, не писал ли какой-нибудь крупный художник Шартрский собор, Большие фонтаны Сен-Клу, Везувий, и, вместо фотографий этих мест, предпочитала дарить мне фотографии картин: «Шартрский собор» Коро, «Большие фонтаны Сен-Клу» Гюбера Робера, «Везувий» Тернера, отчего художественная ценность репродукции повышалась. (Третий слой.) Но хотя фотограф не участвовал здесь в интерпретации шедевра искусства или красот природы и его заменил крупный художник, однако без него дело все же не обходилось при воспроизведении самой этой интерпретации. В своем стремлении по возможности изгнать всякий элемент вульгарности бабушка старалась добиться еще более ощутительных результатов. Она спрашивала у Свана, нет ли гравюр с интересующего ее произведения искусства (четвертый слой), предпочитая, когда это было возможно, гравюры старинные и представляющие интерес не только сами по себе, например гравюры, изображающие какой-нибудь шедевр в таком состоянии, в котором мы больше не можем его видеть в настоящее время (подобно гравюре Моргена с «Тайной вечери» Леонардо, сделанной до разрушения картины)». Тому же методу она следовала, выбирая в подарок антикварную мебель, или давая Марселю старомодные, полувековой давности романы Жорж Санд (1804–1876).
Мать, читающая ему вслух эти романы Жорж Санд, завершает первую тему часов в постели. Первые шестьдесят страниц английской версии являются законченным целым и содержат почти все элементы стиля, какие есть в романе. Деррик Леон отмечает: «Обогащенная его замечательной и широкой культурой, глубокой любовью и пониманием классической литературы, музыки и живописи, вся книга обнаруживает роскошь сравнений, взятых с равной уместностью и легкостью из биологии, физики, ботаники, медицины, математики, чему не перестаешь изумляться и восхищаться».
И следующие шесть страниц образуют законченный эпизод или тему, которая, в сущности, служит предисловием к комбрейской части романного повествования. В эпизоде, достойном заглавия «Чудо Липового Чая», происходит знаменитое опознание мадлены. Он начинается с итоговой метафоры первой темы — темы засыпания и пробуждения: «И вот давно уже, просыпаясь ночью и вспоминая Комбре, я никогда не видел ничего, кроме этого ярко освещенного куска, выделявшегося посредине непроглядной тьмы, подобно тем отрезкам, что яркая вспышка бенгальского огня или электрический прожектор освещают и выделяют на какой-нибудь постройке, все остальные части которой остаются погруженными во мрак: на довольно широком основании маленькая гостиная, столовая, начало темной аллеи, из которой появится господин Сван, невольный виновник моих страданий, передняя, где я направлялся к первой ступеньке лестницы, по которой мне было так мучительно подниматься и которая одна составляла очень узкое тело этой неправильной пирамиды, а на вершине ее моя спальня с маленьким коридором и стеклянной дверью, через которую приходила мама…»
Не забудьте, что смысл таких воспоминаний, хоть их число и умножается, пока что ускользает от рассказчика. «Потерянный труд пытаться вызвать его (прошлое), все усилия нашего рассудка оказываются бесплодными. Оно схоронено за пределами его ведения, в области, недостижимой для него, в каком-нибудь материальном предмете (в ощущении, которое вызвал бы у нас этот материальный предмет), где мы никак не предполагали его найти. От случая зависит, встретим ли мы этот предмет перед смертью или же его не встретим». И лишь на последнем званом обеде, в последнем томе книги, рассказчика, к тому времени человека пятидесяти лет, один за другим пронзают три электрических разряда, три озарения («епифании» — скажет современный критик) — впечатления настоящего сомкнулись с воспоминаниями о прошлом — неровность камней, звяканье ложечки, жесткость салфетки. И впервые ему открывается художественная важность подобного опыта.
За время жизни рассказчик несколько раз испытывал такого рода потрясения, но не сознавал тогда их важности. Первый такой шок был вызван мадленой. Однажды, когда ему было лет тридцать, что ли, и детские дни в Комбре были давно позади, «в один зимний день, когда я пришел домой, мать моя, увидя, что я озяб, предложила мне выпить, против моего обыкновения, чашку чаю. Сначала я отказался, но, не знаю почему, передумал. Мама велела подать мне одно из тех кругленьких и пузатеньких пирожных, называемых petites madeleines, формочками для которых как будто служат желобчатые раковины моллюсков из вида морских гребешков. И тотчас же, удрученный унылым днем и перспективой печального завтра, я машинально поднес к своим губам ложечку чаю, в котором намочил кусочек мадлены. Но в то самое мгновение, когда глоток чаю с крошками пирожного коснулся моего нёба, я вздрогнул, пораженный необыкновенностью происходящего во мне. Сладостное ощущение широкой волной разлилось по мне, казалось, без всякой причины. Оно тотчас же наполнило меня равнодушием к превратностям жизни, сделало безобидными ее невзгоды, призрачной ее скоротечность, вроде того, как это делает любовь, наполняя меня некоей драгоценной сущностью: или, вернее, сущность эта была не во мне, она была мною. Я перестал чувствовать себя посредственным, случайным, смертным. Откуда могла прийти ко мне эта могучая радость? Я чувствовал, что она была связана со вкусом чая и пирожного, но она безмерно превосходила его, она должна была быть иной природы. Откуда же приходила она? Что она означала? Где схватить ее?»