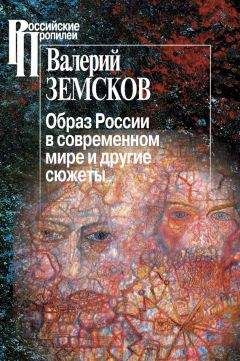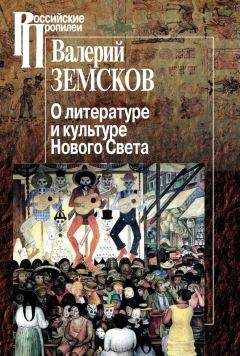Конкретный сопоставительный анализ экспансионистских концепций Испании, России и Англии, возможно, выявит отличия, связанные и с различием конфессиональных, цивилизационных платформ (католичество, православие, протестантство), и с хронологической асимметрией, но с точки зрения понимания генезиса здесь важна принципиальная общность интерпретации экспансии во всех трех вариантах – в христианско-эсхатологической макроперспективе. Единый эсхатологический миф и оказывается центровым, генерирующим мифом во всех трех вариантах новых культурных традиций, как они складываются в ходе колонизации Америки и Сибири. Ожидания «конца света» концентрируются именно вокруг 1492 г. в связи с наступлением 7000 г. от сотворения мира, т. е. хронологически совпадает с открытием Колумба, продолжаются на протяжении всего периода экспансии XVI–XVII вв. И для западной, и для русской культуры важной силовой точкой эсхатологизма был 1666 год. Иными словами, весь период, включавший в себя падение Константинополя, географические открытия, борьбу Реформации и Контрреформации, расколы (внутри католицизма, а затем внутри протестантизма и в православии), рассматривался современниками в соответствии с учением Августина Блаженного как saeculum senescens (стареющий век, лат.). Открытие Нового Света было тому подтверждением. «Идеологи английской экспансии Хэклит и Пёрчес, как и испанцы, верили в близкий конец света, и апокалиптическое толкование ситуации было одинаково и в Испании, и в Англии до конца XVII века»[242]. Нечто сходное происходит и на Руси, где во второй половине XVII в. шла напряженная битва раскольников с «Антихристом». Прагматику и мистику в событиях, в идеологии, в действиях людей и институтов власти эпохи открытий и экспансии разделять не только трудно, но и неплодотворно. Как справедливо писала С. В. Лурье, «неверно смотреть на империю как на политэкономическое явление (исключительно. – В.З.), таковой не была ни одна империя»; «геостратегический вектор имперской экспансии всегда имел свое идеальное наполнение» [243].
Это очевидно в событиях XVI–XVII вв., когда мистика и прагматика оказываются связанными в единый клубок и служат взаимному обоснованию на протяжении всего процесса открытий и экспансии. Существует множество исследований, которые убеждают в том, что открытие Нового Света можно в равной мере рассматривать и как результат научных и технологических новаций, и как воплощение легендарно-мистических импульсов и предпосылок[244]. Не углубляясь в эту тему, напомним только о сакральной христианской пространственной ориентации, которая и определила пути поисков Колумба и его заблуждения. Восток (восход, свет) ассоциируется с движением к Богу, к Благодати (рай), Запад (закат, тьма) выступает с обратным знаком, это область Сатаны (ад).
Возможно, именно с этим связано маниакальное упорство Колумба, когда, казалось, всем уже было ясно, что он обнаружил западные земли, в отстаивании того, что он западным путем добрался до земель восточных (Китай, Индия, Сипанго – таково изначальное название Японии в западноевропейских языках). Адмиралу не хотелось повторить прекрасно известную ему судьбу Улисса из «Божественной комедии» Данте (XXVI песнь «Ада»). Ведь путь хитроумного странника закончился тем, что он, презрев предостережение, начертанное на Геркулесовых столпах «Non plus ultra» («Дальше некуда», лат.), ведомый страстью познания отправился через «море мрака» на Запад, держась «налево» (т. е. в направлении к Бразилии) и через пять лун под сиянием звезд Южного Креста увидел затемненную расстоянием гору, а затем налетевший смерч унес его и путников именно туда, куда он и направлялся – в Ад. А Колумб бредил, что вот-вот где-то в глубинах Амазонии будет обнаружен Рай – гора в виде женской груди.
Понятие «Индии» – другой ключевой топос в сакральной ориентации эпохи, который с античных времен ассоциировался с изобилием, щедростью, драгоценностями, золотом, не только в прагматическом, но и в духовном аспекте (духовное золото – рай). В испанской традиции в XVII в. был найден терминологический компромисс – владения в Новом Свете стали именоваться «Западными Индиями». (В английской зоне экспансии прижился аналог: «Вест-Индия» – в отношении Антильских островов.) Теперь о русском варианте, отметив существенное для нашей темы: уже во времена Великих географических открытий известный итальянский гуманист Джулио Помпонио Лето в своих лекциях (опираясь на античную традицию, идущую от Плиния) именовал земли Сибири, остававшиеся все еще неведомыми до русских открытий, «Верхней Индией», т. е. рассматривал под знаком духовного «Востока» и северные области, хотя гораздо чаще северные земли именуются «Тартаром» (ад) и выступают под отрицательным знаком[245].
Иными словами, исконный христианский мистический утопизм связан с движением на Восток, в «Индии», что проявится позднее и в русском переселенческом движении в XIX в. в варианте хилиастических исканий земного рая в восточном направлении, «за Сибирью».
Таким образом, из взаимодействия прагматики, мифологии, мистики, наблюдаемом на разных уровнях идеологии и практики, и плетется ткань истории.
Три типа этнокультурного взаимодействия – три варианта матричных культурно-литературных моделей
Вначале подробнее скажу о субъектах экспансии, выделив три типа экспансионистских концепций:
1) государственные имперские доктрины; 2) экспансионистская идеология церкви, монашества, конфессиональных групп; 3) идеология неофициальной народной экспансии, с которой также связан обширный мифофонд, выступающий важнейшим культурообразующим источником.
Во всех трех вариантах, при различной степени эксплицитности, изначальную основу имперско-экспансионистских концепций составляет одна и та же Большая эсхатологическая идея, приписывающая государству-этносу миссионерскую роль, притом что в Испании, Англии и на Руси она трансформировалась по-разному.
Максимальной степенью эксплицитности отличалась испанская концепция, формировавшаяся еще в ходе Реконкисты. В награду за победу над маврами (последний оплот мавров – Гранада завоевана именно в 1492 г.) Ватикан в соответствии с буллой Inter Cetera поручал «католическим королям» Фердинанду и Изабелле (при разделении сфер с Португалией) провиденциальную роль открывать новые земли и народы, чтобы «обратить (их) в католическую веру»[246]. В последующих буллах (1501 и 1508 гг.) христианизация подтверждалась как главная цель, и «католическая королям» давалось беспрецедентное право назначать церковных иерархов на новооткрытых землях вплоть до архиепископов. Давний лозунг «святой войны» против мавров трансформировался при Карле V в теократическую концепцию «Всемирной католической монархии».
В Московском государстве конституирующая религиозно-этническая идея «Святой Руси», укрепляющаяся в ходе борьбы с монгольским игом (очевидна перекличка с Испанией, боровшейся с маврами), обретает неофициальное государственно-религиозное оформление после падения Константинополя в концепции «Москва – Третий Рим». Она-то и становится Большой идеей русской монархии, которая при Иване Грозном начинает превращаться в империю именно в результате экспансии в пространства за «Камнем».
Думается, что здесь сыграл свою роль не только военный и колонизационный, но и идеологический опыт Испании – он накладывался на опыт собственный, а русский идеологический «рисунок» имел много отличий.
Существенное отличие состоит в том, что концепция «Москва – Третий Рим», в отличие от испанского варианта, никогда не имела статуса официально прокламированной государственно-религиозной концепции. Ее роль всегда оставалась непроявленной, двусмысленной. Из этого обстоятельства родилась тенденция придавать ей исключительно религиозно-эсхатологический смысл[247]. Однако это, по крайней мере, спорно. Эсхатологическое обоснование писателем первой половины XVI в. монахом Филофеем после падения Константинополя сакральной роли Москвы как «Третьего Рима» в письме Василию III («потому что конец уже близок») не случайно обращено к монарху. Эту доктрину унаследовал Иван Грозный, при котором Московская Русь начала превращаться в империю. Впрочем, унаследованный от Византии теократический дух русской государственности ничего иного и не мог предположить.
Обратим внимание на то, что в сибирских летописях конца XVI–XVII вв. точно так же, как и в испанских хрониках открытия и завоевания Америки, главным религиозно-юридическим обоснованием права на захваты является именно провиденциальная роль христианства – ведь согласно учению, всемирное распространение христианства есть необходимое условие приближения конца света и Богоявления. В летописи XVII в. «История Сибирская» Семёна Ремезова, обобщившей весь опыт русской экспансии и сцементировавшей ее мифологию, в первом же абзаце утверждается, что Бог поручил православному народу «проповедовать истинную веру во все концы света»[248].