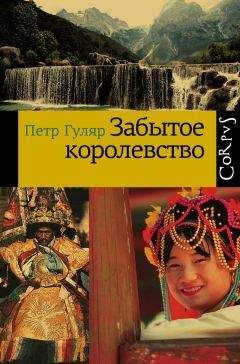Нищета, в которой жили мяо, поражала воображение. В хижинах не было никакого даже отдаленного подобия мебели или кухонной утвари. Они пользовались посудой, изготовленной из древесной коры, бамбука или дерева, однако ни постелей, ни одеял у них не имелось. Сами они ходили в тряпье, полуголыми — им нечем было прикрыться ни ради соблюдения приличий, ни для защиты от холода. Дети, даже старшего возраста, ходили совершенно голыми, хотя девочки носили небольшой треугольничек вместо фигового листка. У большинства были вздутые животы от тяжелой и трудноперевариваемой пищи, а кожа у них, в отличие от гладкой, лоснящейся кожи наси и тибетцев, была землисто-серого оттенка и походила на мятую газетную бумагу. Но как им помочь? Они отказывались практически от всего, с помощью чего они могли бы улучшить свой удел. Я предлагал им семена различных овощей и кукурузы, но они сказали, что не станут их сажать — они этого не едят, не знают, как ухаживать за такими растениями, да и расти они в тех краях не будут. Никто и пробовать не захотел. Они с благодарностью принимали простые лекарства — примочки для глаз, хинин, серную мазь, — однако даже ими пользовались спустя рукава, оставляя их покрываться пылью в дальнем углу, если не наступало немедленного улучшения. Они нуждались в деньгах, однако продавать им было почти что нечего — разве что одну-двух куриц или неизменную свинью. Работа в кооперативе приносила кое-какой доход, но его явно не хватало. Деньги нужны были не столько для того, чтобы покупать еду, которой, пусть и низкого качества, им кое-как хватало, но для того, чтобы купить себе жену и устроить свадебный обед. Без этого никак нельзя было обойтись. Свадебный обед был для жителей этой деревни уникальным шансом наесться и напиться до отвала. Каждое из этих редких и важных событий становилось для них лучиком радости и счастья, позволявшим хоть на день забыть о непередаваемо убогой обстановке, в которой они существовали.
Иногда я привозил им подарки. Поначалу я делал множество ошибок, даря им такие вещи, как мыло или электрические фонарики — предметы, которые я обычно раздавал наси и другим народам. Однако мяо клали их на видное место и хранили так, будто я подарил им позолоченные каминные часы или статуэтку севрского фарфора. Тогда я начал возить им старую одежду, фунт-два соли, дешевые ткани или головы коричневого сахара и кувшины вина — эти подарки они принимали с такой благодарностью, что больно было смотреть.
Мяо оказались в безвыходном положении. Много столетий назад разрастающееся население Китая вытеснило их из Гуйчжоу в эти дикие, пустынные долины и ущелья, где им удалось укрыться от агрессивных соседей. Однако теперь они снова ощущали на себе давление цивилизации, только на сей раз — будучи на последнем рубеже. Незанятых мест больше не оставалось, отступать было некуда, спрятаться было негде.
Даже путешествуя в Лицзян, они избегали других путников. Сбившись в маленькие группки, они со страхом вглядывались в приближающихся путешественников или караваны и обходили их десятой дорогой, только бы не столкнуться с ними лицом к лицу. Строгий взгляд или громкое слово повергало их в безрассудную панику, и они тут же бросались наутек. Иногда они останавливались у меня дома, но никогда не задерживались надолго. Они тряслись от ужаса под взглядом моего повара, их пугал людской поток, шедший через мою контору.
Проведя два-три дня в железодобывающем кооперативе, я обычно поднимался в гору, где в Верхнем Нгацзе располагался бумажный кооператив. Его управляющий, мой добрый приятель Айя Айя, обычно спускался вниз накануне вечером, чтобы меня встретить. Этот наси был необычайно милым, способным и невероятно трудолюбивым молодым человеком. Чтобы одолеть подъем до наступления дневной жары, которая среди этих колоссальных гор была совершенно невыносимой, мы выходили рано утром. Чуть выше по течению от железодобывающего кооператива реку Хэйбайшуй пересекал каменный мост. Затем тропа начинала резкий подъем вдоль низкого холма, параллельно которому протекал другой ручей — приток Хэйбайшуй. Края эти были довольно опасными, поскольку считались чем-то вроде ничейной земли — здесь, среди густых лесов, жили народы и люди, сравнительно недавно населившие эти места: сычуаньские поселенцы, тибетцы из Чжундяня, мяо, белые ицзу, перемещенные наси и боа.
По дороге было две чайных, где мы останавливались на отдых. Как-то раз на одном из таких привалов Айя Айя начал беспокойно поглядывать на соседний столик, за которым сидели какие-то туземцы. Я заметил, что он пытается загородить меня от них, и спросил, в чем дело. Он пояснил, что многие местные, включая мяо, мастера наводить порчу. Делается это не оккультными методами, а при помощи забрасывания щелчком пальца микроскопического кусочка яда под названием ндук в чашку жертвы с чаем или вином. Человек, ни на что до тех пор не жаловавшийся, начинает с каждым днем чувствовать себя все хуже и хуже и через пару месяцев умирает. Я указал Айя Айя на то, что меня этим людям травить незачем, поскольку я им ничего плохого не сделал, однако это его не убедило. Он ответил, что психология у здешних племен совершенно иная — они подчиняются странным, иррациональным импульсам и нередко совершают ужасные поступки просто ради забавы.
Поднимаясь в гору, мы проходили мимо деревни под названием Саньдавань, населенной сычуаньскими поселенцами, которые днем мирно трудились на полях, но по ночам, как поговаривали, превращались в безжалостных разбойников. За деревней подъем забирал круче в гору; тропа входила в обширный лес, посреди которого в лощине стояла маленькая деревня, окруженная внушительным бревенчатым забором. То была колония прокаженных, где жили несколько китайских семей из Сычуани и другие несчастные, пораженные этой ужасной болезнью. Затем, уже после полудня, мы делали последний рывок и взбирались в гору, через густой лес, на небольшой выступ на крутом склоне, где стоял бумажный кооператив — вытянутое, приземистое здание, закопченное дымом древесных печей, из-за холодов горевших здесь днем и ночью. Перед ним были три больших и глубоких квадратных каменных бассейна. Ниже располагались два огромных чана, под которыми горели печи, и мелкий вытянутый бассейн, обложенный камнями. С вершины горы падал небольшой, но поразительно сильный и шумный поток ледяной воды, который, протекая мимо здания, вращал деревянное колесо, подведенное к дробильной машине. В крохотном огороде за забором росли несколько голов капусты и репы; вокруг бродили крупные свиньи и куры, а к бревенчатому забору были привязаны на цепи два свирепых тибетских мастифа.
В кооперативе состояло восемь членов. Управляющим был Айя Айя; ему помогал старик-отец, никогда не отлучавшийся с фабрики. Остальными участниками были горцы-наси и сычуаньцы, один из них — техник. Материалом для бумаги служила разновидность горного бамбука под названием «арундинария» — тонкие растения фиолетового цвета, растущие густыми купами на высоте не менее 4500 метров над уровнем моря. Утром того же дня, когда мы прибывали на место, несколько кооператоров отправлялись срезать бамбук — позже им предстояло вернуться с толстыми связками, перекинутыми через спины мохнатых лошадок. Бамбук раскладывали на земле и, выдержав несколько дней на воздухе, загружали в дробильную машину с водным приводом, откуда измельченная масса попадала в длинный бассейн. Там ее засыпали известью и оставляли до полного размягчения. Подготовленную массу перемещали в чаны и варили с добавлением реактивов, получая пульпу, которую закладывали в каменные бассейны, где к ней примешивали сок из корней карликовой сосны. Теперь из нее можно было делать бумагу. В бассейн аккуратно окунали раму с сеткой из конского волоса; на ней оседал тонкий слой пульпы которую ловко переносили на чистую доску. Там она практически сразу застывала. На первый лист тут же наносили следующий слой пульпы и продолжали в том же духе до тех пор, пока не получалась кипа бумаги, которую убирали, чтобы освободить место для следующей. В бассейн непрерывно добавлялась новая пульпа, вода и сосновый экстракт. Бумажные кипы разделяли на отдельные листы, которые затем развешивали на длинных шестах внутри здания и сушили при помощи жаровен. Высохшие листы снова складывали в стопки — теперь они были готовы для продажи. Бумага получалась толстая, желтоватого оттенка и слишком грубая для письма. Ее использовали для упаковочных и других домашних нужд, но главным образом при родах — она служила вместо гигиенических салфеток и полотенец. Стоила она копейки, и доходы от ее производства были более чем скромные.
Я прозвал бумажную артель «заоблачным кооперативом»: вид оттуда открывался захватывающий, не хуже, чем из окна самолета. С высоты 4500 метров было видно все на десятки километров вокруг — до темного ущелья, где располагался железодобывающий кооператив, и горных хребтов, которые, словно колоссальные волны, уходили вдаль и растворялись в синей дымке далекого горизонта. Иногда вид закрывали облака, однако до артели они не добирались, паря внизу, словно бескрайнее серебристое море, из которого фиолетовыми островками торчали горные вершины.