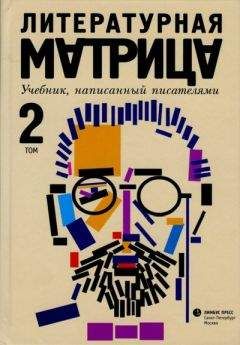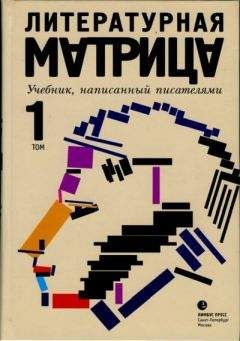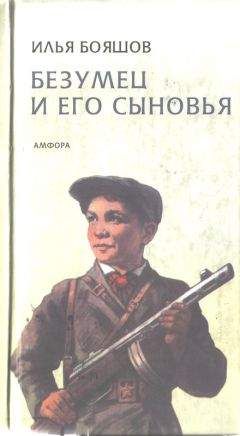И за изумлением, настороженностью, которые сопровождали огромный успех «Деревни», осталось почти незамеченным то главное качество, что позволило Бунину создать его литературу и сохранить ее исключительность, какой бы предмет она ни изображала — нищую деревенскую свадьбу или, например, ночной кутеж богатой московской богемы. Качество это — уже упомянутая необыкновенная, почти за гранью человеческих возможностей способность видеть, слышать, обонять реальный мир, все его самые тонкие оттенки, шорохи и скрипы, запахи и дуновения, да и зафиксировать все это так изобразительно точно, как не умел, кроме Бунина, ни один русский прозаик. Но даже те (а их было немало), кто увидал это в «Деревне», не сразу смогли понять, что пейзаж, портрет, живописная деталь у Бунина — не совсем то и даже совсем не то, что пейзаж, портрет и деталь у «обычного» писателя. Бунинские описания, иногда даже один только эпитет, суть сама литература, ее вещество. И не потому правдиво изображение Буниным деревни, что он мужика «насквозь видит», а потому он и мужика не приукрашивает, что весь мир видит так ясно, видит словно бы промытым, очищенным от мути обычного, расплывающегося восприятия:
«Зима наступила долгая, снежная.
Бледно-белеющие под синевато-сумрачным небом поля стали шире, просторней и еще пустыннее. Избы, пуньки, лозины, риги резко выделялись на первых порошах. Потом завернули вьюги и намели, навалили столько снега, что деревня приняла дикий северный вид, стала чернеть только дверями да окошечками, еле выглядывающими из-под нахлобученных белых шапок, из белой толщи завалинок. За вьюгами подули по затвердевшему серому насту полей жесткие ветры, оборвали последние коричневые листья с бесприютных дубовых кустарников в логах…» («Деревня»).
Здесь не классическое пейзажное отступление, которое должно, как известно, передавать внутреннее состояние героя или авторское настроение — здесь именно та непреодолимая сущность жизни, которая в этом пейзаже ранней русской зимы воплощена не менее определенно, чем в описаниях убогого и бесчеловечного собственно крестьянского существования.
Тут я подхожу к тому, что кажется мне важнейшей составляющей идеальности Ивана Бунина как писателя: Бунин — истинный реалист, то есть не то что бы «изображающий жизнь в формах самой жизни», но изображающий сами эти формы так безукоризненно точно, что жизнь как бы изображается сама по себе и так же безупречно верно. Вот, к примеру, абзац из рассказа «Антоновские яблоки»: «…черное небо чертят огнистыми полосками падающее звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому… Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!» Сколько раз перечитываю это место, столько раз и начинает кружиться голова, плывет земля под ногами и даже доносится откуда-то свойственное только очень молодому человеку внутреннее восклицание «как хорошо жить на свете!». Вот и главный секрет Бунина: он описывает все что угодно, от деревенского вечера до степного пейзажа, а получается, что не просто описывает, но создает живое человеческое чувство. В его темных липах, дальних грозах, ледяных буграх вокруг прорубей и синей жирной черноземной грязи дорог больше человеческих трагедий, в том числе и психологических, чем во многих подробных изложениях с ремарками типа «он подумал» и «она почувствовала». Его можно было бы упрекнуть в избытке изобразительности, но в том-то и дело, что изобразительность эта не в избытке, ее как раз в меру человеческой жизни.
Впрочем, учитывая, что жизнь у Бунина изображается не просто в формах самой жизни, а исключительно в формах, его можно было бы назвать и формалистом. Но формализм Бунина уравновешивается тем, о чем уже сказано — освещающим его прозу поэтическим чувством. Поэтического происхождения бунинской прозы и его в высшем смысле реалистического способа письма было бы, по-моему, уже достаточно, чтобы создать писателя почти совершенного. Но ему Господь послал и все остальное, что нужно писателю идеальному, — судьбу и долголетие.
Эмиграция — вернее, бегство от гибели, неминуемой при большевиках, — обрекла Бунина на судьбу, которой не избежали и многие его товарищи по цеху. Но только бунинский гений смог на почве этого несчастья взрастить литературу такого уровня, какой не был бы — я в этом глубоко убежден — достигнут Буниным, не произойди катастрофа. При этом (если не считать блистательных «Окаянных дней») собственно о революции он ничего не написал. Более того, он и об эмигрантской жизни написал не так уж много. А главное, что он написал в изгнании (автобиографический в значительной мере роман «Жизнь Арсеньева» и рассказы, прежде всего цикл «Темные аллеи»), — все это о России. Невероятная, почти непереносимая горечь, которой наполнены эти сочинения и которая придает им особую, несколько болезненную притягательность (так притягательны размышления о смерти и умерших), эти горечь и притягательность происходят из невозвратности России, из ее безусловной гибели. Многолетний друг Бунина писательница Тэффи так определила это ощущение: «О какой родине мы толкуем? Та, которую я потеряла, для меня не просто некое пространство между границами, где растут березки, так трогательно воспетые поэзией. Это прежде всего нематериальная сущность, чьи элементы насильственно разрушены и заменены другими, которых я не приемлю. Если бы я вернулась, я бы оказалась в чужой стране. Душа моей родины умерла, а в этой новой стране, построенной на развалинах, я бы себя потеряла». Под этими словами мог бы подписаться и сам Бунин с его непоколебимым неприятием большевиков и советской власти, с его решительным отказом вернуться — ему возвращаться было некуда, его России не стало и уже никогда не могло быть.
Из этой потери, невозвратность которой сравнима разве что с невозвратностью смерти, и выросло все написанное им во Франции — отсюда и чувственная сила его прозы, созданной во второй, вне России, половине жизни. Существенно заметить, что личные потрясения и переживания Бунина той поры — а они были огромными, от бедности до нобелевского лауреатства и снова ужасающей бедности, от противоестественной жизни под одной крышей супругов и любовников до враждебности многих товарищей по несчастью, от бездомности до невозможности ощутить новую Россию как вовсе, начисто чужую — ничто из этого, за небольшими исключениями, не стало основой его сочинений. В сущности, все его вещи эмигрантского периода (кроме дневников) есть не что иное, как воспоминания, но воспоминания такой силы, которая достигает почти спиритического эффекта общения с душами мертвых.
Рассказ «В Париже» из «Темных аллей» не очень типичен для этого несравненного, не имеющего в русской литературе никакого подобия цикла рассказов о любви, — в нем жизнь описана как раз эмигрантская. Но мое личное пристрастие утвердило меня в уверенности, что именно «В Париже» представляет Бунина во всем его недостижимом величии мастера и во всей человеческой прелести вечного борца со смертью, делающего все в этом мире, на что падает его взгляд, вечным. Вот как начинается этот коротенький рассказ:
«Когда он был в шляпе, — шел по улице или стоял в вагоне метро, — и не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся, по свежести его худого, бритого лица, по прямой выправке худой, высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто, ему можно было дать не больше сорока лет. Только светлые глаза его смотрели с сухой грустью…»
Однако хватит. Цитировать хочется весь рассказ до последнего слова, но «Темные аллеи» теперь переиздают часто, да и в Интернете текст можно найти. Здесь же место для попытки понять, почему же и чем потрясает этот текст.
Вчитаемся хотя бы в первую фразу — что в ней такого, от чего сразу начинает щемить сердце? И если бы я был таким счастливым человеком, который впервые читает «В Париже», то и в этом случае я сразу бы понял, что впереди — скорая трагедия… Посмотрите внимательнее, вот оно: «…не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся… ему можно было дать не больше сорока…» То есть понятно, что герой стар, что и дальше речь пойдет о старости сильного («глаза его смотрели с сухой грустью»), а' потому еще тяжелее, чем слабодушный, стареющего человека. В первом абзаце сразу задана интонация, и разлитая по фразам горечь уже входит в душу читателя, пропитывает ее.
Чем же достигает этого Бунин? А своим главным умением — способностью видеть и описывать мелкие, ему одному заметные детали, почти атомы действительности. И читатель действительно видит этого рыже-седого высокого и сухопарого старика, видит как живого — а потом герой совершенно естественно оказывается бывшим генералом, воевавшим и в Первой мировой, и в Гражданской войне, а теперь пишущим истории этих войн по заказам разных иностранных издательств… Такой, знаете ли, генерал из интеллигентных (вероятно, служил в мирное время по генеральному штабу или в академии преподавал) — и все это из нескольких слов, которые я выше процитировал, легко угадывается, а когда продолжаешь читать, то ты уже готов ко всему остальному, тебе уже и понятно все. Это и есть бунинская изобразительность, в которой абзац стоит главы, а слово — целой биографии.