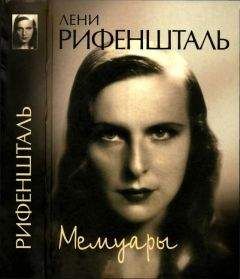Проблемы и заботы
В начале сентября 1936 года советник Берндт по поручению Геббельса сделал на ежедневной пресс-конференции в Министерстве пропаганды официальное сообщение о том, что впредь до особого распоряжения в прессе нельзя давать никакой информации о моем олимпийском фильме и о моей персоне лично. Этот запрет продержался более года и был отменен лишь за несколько недель до премьеры, с двумя исключениями: во-первых, Минпроп опроверг сообщения иностранной прессы, в которых из-за меня Геббельсу наносились оскорбления, а кроме того, нельзя было замолчать тот факт, что в начале лета 1937 года на Всемирной выставке в Париже я получила три золотые медали.
Со стороны Геббельса последовали и другие каверзы. При проверке кино-кредитным банком бухгалтерской отчетности и кассовых документов моей фирмы в нашей кассе была установлена недостача в размере 80 марок. После этого министр пропаганды потребовал, чтобы из-за столь незначительной суммы я уволила старого верного сотрудника, отца троих детей, Вальтера Гросскопфа. Я отмела это глупое подозрение.
Тогда Геббельс передал мне через своего секретаря Ханке требование: фильм об Олимпиаде должен состоять только из одной серии и чернокожих спортсменов не следует показывать слишком часто. И вновь я не обратила внимания на это распоряжение. Всего несколько дней спустя Минпроп сообщил мне, что по указанию министра я должна немедленно уволить пресс-секретаря Эрнста Егера — в связи с его браком с «женщиной-неарийкой». Я в очередной раз отважилась проигнорировать указание. Мне было ясно, что долго с моим сопротивлением мириться не будут. Так оно и случилось. Геббельс решил окончательно добить меня и забрать мой фильм об Олимпиаде под опеку своего министерства. 6 ноября он отдал распоряжение, чтобы Министерство пропаганды, через которое до сих пор осуществлялось рефинансирование договора с фирмой «Тобис», больше не выплачивало никаких денег моей фирме. Это означало конец работе: мы израсходовали гарантию «Тобиса» в размере полутора миллионов. Превышение расходов уже нельзя было покрыть договором о прокате. Для предусмотренных четырех иноязычных версий и серии короткометражных спортивных фильмов требовалось не менее полумиллиона марок. Наш бюджет был перерасходован, касса пуста. Поэтому я подала в Минпроп прошение о предоставлении новой ссуды. Ситуация была настолько критической, что я почти не могла спать и серьезно подумывала о том, чтобы кому-то передать фильм и уехать за границу.
Для спасения картины мне виделся лишь один шанс — разговор с Гитлером. Но у фюрера не было свободного времени, он постоянно находился в разъездах. Неделю за неделей я предпринимала безуспешные попытки. Наконец 11 ноября мне назвали точную дату, случайно совпавшую с днем рождения жены Геббельса. Мне надлежало быть в рейхсканцелярии к 17 часам.
Гитлер, как всегда, приветливо встретил меня и справился о моей работе. Нервы у меня были настолько напряжены, что я не выдержала и расплакалась. Захлебываясь слезами, я сказала, что не могу здесь больше работать и что в создавшейся ситуации должна буду покинуть Германию.
— В чем причина? — удивился Гитлер.
В отчаянии я воскликнула:
— Меня ненавидит доктор Геббельс!
Тут Гитлер рассердился:
— Что за чепуха! Отчего это доктор Геббельс должен вас ненавидеть?
Мне было противно говорить о легкомысленных выходках, которые позволял себе Геббельс. Рассказала только о препонах, которые чинились мне в работе.
— Вы устали и перенервничали. Подумайте сами: с какой стати министр должен предпринимать что-то против вас?
Меня удивило то, с какой настойчивостью Гитлер защищал своего соратника, а мне совсем не хотел верить. Тут могло помочь только одно — показать ему полицейский протокол, что я собиралась делать только в самом крайнем случае, — и вот этот момент настал. На первенстве Германии по легкой атлетике нам предстояло провести важные съемки крупным планом Хейна и Бласка, победителей в метании молота, так как на Олимпийских играх судья запретил их снимать. Вайдеманн,[255] который должен был делать в 1936 году фильм о партийном съезде, хотел перещеголять «Триумф воли» и потому вознамерился «аннексировать» моих операторов. Когда Ганс Эртль и другие отказались, он отдал эсэсовцам распоряжение арестовать их.
Если до этого момента Гитлер выступал в защиту Геббельса, то теперь, прочтя полицейский протокол, надолго задумался.
Я заметила на его лице бледность, которая позволяла сделать вывод, что он взволнован.
— Хорошо, — коротко резюмировал Гитлер, — я поговорю с доктором Геббельсом. Больше пока ничего не могу сказать. Идите домой. Вас известят.
Он быстро попрощался со мной, когда адъютант во второй раз напомнил ему, что пора отправляться на празднование дня рождения фрау Геббельс. Я же в полнейшей растерянности отправилась домой.
Спустя несколько дней мне позвонил Брюкнер и сообщил следующее:
— С этого дня вы будете подчиняться не министру Геббельсу и не Министерству пропаганды, а Рудольфу Гессу и Коричневому дому. Это, — продолжал Брюкнер, — результат беседы фюрера с доктором Геббельсом, после того как министр заявил, что не может больше продолжать сотрудничать с вами.
В первый момент я еще не до конца поняла всей важности сообщения.
Но вскоре выяснилось, что для меня и моих сотрудников это оказалось благодатью. Все каверзы и вмешательства прекратились. Теперь мы могли работать без помех. Согласие на предоставление ссуды было получено. Наши отношения с Минпропом ограничивались финансовыми отчетами и контролирующими проверками до полного погашения кредита и выплаты процентов по нему. Но нас это уже не касалось, так как Траут и Гросскопф настолько хорошо «прикрывали» меня, что теперь можно было целиком сосредоточиться на работе.
Занимаясь сортировкой, отбором и подписыванием материала, мы получили известие, которое всех нас потрясло. Мать Вилли Цильке в отчаянии сообщила, что сына поместили в «Хаар», мюнхенскую психиатрическую больницу. От жены Цильке мы узнали, что ее муж в приступе душевной болезни уничтожил большую часть своих фоторабот и раскромсал стол и стулья. Кроме того, стрелял из ружья и хотел поджечь квартиру.
Мы были совершенно ошеломлены. Уже на следующий день мы с Вальди Траутом поехали в Мюнхен, чтобы поговорить с директором больницы. Мы знали, что к Цильке нельзя подходить с обычными мерками. Его поведение часто бывало странным. Он нередко звонил в три-четыре часа ночи, чтобы обсудить какую-нибудь настройку камеры. В конце концов, дабы не обидеть его, приходилось изобретать разные отговорки. Вилли был крайне впечатлительным человеком, но мы всегда превосходно ладили, а кроме того, он мне очень нравился. Теперь мне вновь вспомнилось его странное поведение на Куршской косе и рассказ госпожи Петерс. Когда она однажды навестила его, Цильке стрелял из пневматического пистолета по мухам, летающим по комнате.
Беседа с директором «Хаара» меня очень расстроила. Он считал, что это тяжелый случай шизофрении. Я не хотела верить и попросила провести меня в палату. «Это невозможно, — ответил директор, — он вообще отказывается кого-нибудь принимать — не хочет видеть ни мать, ни жену».
Я была обескуражена. «Вы должны сделать все, — сказала я, — чтобы мой сотрудник выздоровел, он должен получать хороший уход. Расходы я беру на себя». Договорились о том, что он будет постоянно информировать нас о состоянии здоровья Вилли. Известия, поступавшие из больницы, были неутешительными. Позднее мы стали получать от Цильке письма. В словах не было никакого смысла, а буквы можно прочесть, только держа письмо против света. Он «писал» их, протыкая бумагу иголкой.
Прошло много лет, прежде чем мне в первый раз разрешили посетить больного, — если не изменяет память, это произошло в первый год войны. Выражение лица было неприветливым, но внешне я нашла его мало изменившимся. На мои слова он не реагировал вообще. И лишь когда я спросила: «Разве тебе не доставит радости взять в руки камеру?» — больной пробормотал:
— Никакой камеры — я хочу остаться здесь — я хочу остаться здесь, не забирай меня отсюда.
Он сильно разволновался и стал испуганно озираться по сторонам.
— Ты можешь переехать ко мне, я буду ухаживать за тобой.
— Я не болен — я живу у Господа…
Потом я еще раз побывала у него, и все повторилось, как и в первое посещение. Лишь в 1944 году с большими трудностями удалось вызволить его из больницы, правда, при условии, что я возьму на себя всю ответственность. Уход за ним мы доверили нашему фотографу Рольфу Лантену, который привез Вилли в Кицбюэль. Мы все заботились о нем и желали только одного — выздоровления.