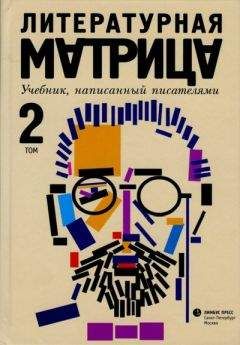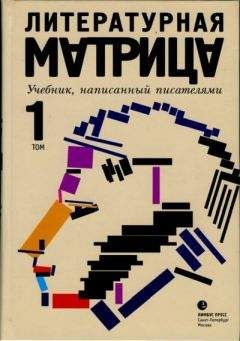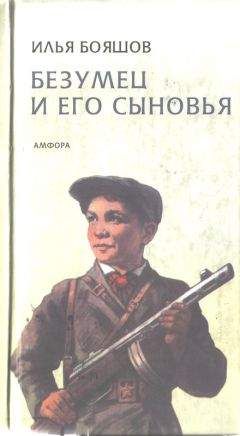Может, потому и выжил?
2
Даже самые горячие поклонники Пастернака признают, что он неровный поэт. Наряду со стихами хорошими, очень хорошими, прекрасными и безмерно прекрасными писал и «так себе стихи», а порой и «совсем не стихи». Чтобы писать хорошо, нужна, во-первых, способность к самокритике, которая является главным признаком психического здоровья; а во-вторых — преобладание так называемых свободных ассоциаций («порох-сатана», как у Хармса[333]) над логическими («порох-пушка», как у «нормального» непоэта), что как раз говорит о большем или меньшем отклонении от нормы. Иными словами, настоящий поэт — человек адекватный и при этом ненормальный.
С Пастернаком в этом плане дело обстояло сложно.
Все снег да снег, — терпи и точка.
Скорей уж, право б, дождь прошел
И горькой тополевой почкой
Подруги сдобрил скромный стол.
Зубровкой сумрак бы закапал,
Укропу к супу б накрошил,
Бокалы — грохотом вокабул,
Латынью ливня оглушил.
Тупицу б двинул по затылку, —
Мы в ту пору б оглохли, но
Откупорили б, как бутылку,
Заплесневелое окно,
И гам ворвался б: «Ливень заслан
К чертям, куда Макар телят
Не ганивал…» И солнце маслом
Асфальта б залило салат.
А вскачь за тряскою четверкой
За безрессоркою Ильи, —
Мои телячьи бы восторги,
Телячьи б нежности твои.
Вот так скачка идей! Тут и кулинария (в меню — тополевая почка, зубровка, укроп к супу, бутылка, масло и салат). И латынь с вокабулами (кстати, что там за бокалы и кто кого глушит? — а, ладно, проехали!) И Макар с телятами и чертями, и тут же Илья-пророк на четверке, и какой-то тупица некстати под горячую руку, и в конце «телячьи» снова, в не слишком эффектном сопоставлении. Да, лихость, разбросанность ассоциаций. Но при всех лирических восторгах — стихи эти по сути разумные, немного скованные; запинающиеся. Многочисленные инверсии (слова когда не так стоят, как в предложении обычно). Бесконечные «б» и «бы» (ну кто заставлял использовать условное наклонение?! — «мы в тупоруб»..) Словечко «ганивал», да и весь этот гам со своей прямой речью… При всей лихости метафор — перед нами громоздкая, усложненная поэзия. При всем богатстве языка — она, по смыслу, проста. Таких стихов у Пастернака много. Например, на смерть Маяковского:
Грачи, в чаду от солнцепека
Разгоряченно на грачих
Кричавшие, чтоб дуры впредь не
Совались в грех…
(…)
Как, сплющив, выплеснул из стока б
Лещей и щуку минный вспых
Шутих, заложенных в осоку,
Как вздох пластов нехолостых.
Или вот это, почти пародия:
Из тифозной тоски тюфяков
Вон на воздух широт образцовый!
Он мне брат и рука. Он таков,
Что тебе, как письмо, адресован.
(…)
И над блюдом баварских озер,
С мозгом гор, точно кости мосластых,
Убедишься, что я не фразер
С заготовленной к месту подсласткой.
Жуть. Несложные смыслы облечены в неуклюжие книжные фразы, приправленные экзотической лексикой. Не знаю, как вам, а мне — не нравится. Почему же он писал иногда так плохо, если мог — прекрасно?
3
Поэты веселого нрава (Державин, Пушкин, Пастернак, ранний Бродский, Дмитрий Быков…) нередко избыточны. Они любят жизнь и потому любопытны ко всем ее проявлениям. Для них характерны перечисления, отступления, подробности, тяжеловесные сравнения, вереницы слов, легкие прыжки с одного на другое. Все это вместе, доведенное до абсурда, производит странное впечатление. Поэзия как будто очень земная, заземленная; взгляд судорожно цепляется за все детали окружающего, за материальный, бытовой, предметный мир — а в итоге создается впечатление нечеловеческого вихря, грандиозного, раздутого пузыря. Поэт не видит своих границ, считает себя — одновременно — и миром, и Творцом и, как волчок, вертится, чтобы не развалиться вместе с миром на куски. Этот страх, который сидит внутри, в основе наших стихотворных пиршеств и блестящих периодов, не может высказать себя. Как только он овладевает поэтом окончательно, тот попросту теряет голос. Иногда Пастернак замолкал совсем (в конце 1930-х), иногда начинал писать «по инерции».
Кроме того, поэтический талант — субстанция весьма специфическая. Как только поэт начинает, к примеру, против своей воли славить тирана, переводить бесталанные стихи или размениваться на всякие мелкие темы, — талант сразу же говорит поэту: «Ну, это без меня». (Стоит прочитать стихотворение Пастернака «Я понял: все живо», чтобы вполне оценить четкость этого механизма). Зато когда поэт осознает свою правоту, когда работает его собственное нравственное чувство, освобождая его от вечного ощущения вины перед реальностью, — тут-то у него и начинает получаться; тут все разбросанные метафоры волшебным образом стягивает светящаяся паутинка, и получается огромный купол, мерцающий шатер, под которым образуется незримое, заколдованное, очарованное место.
…Снег идет, снег идет.
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.
Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.
Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься — и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.
Мороз по коже! Сквозь все стихотворение проходит единая метафора: снег — время. Метафора эта разворачивается, а потом и вовсе обнажается:
Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет (…)? —
и от этого страшно становится: и свободой веет, и мгновенным резким осознанием краткости всего. Торопись, вот как быстро оно идет, вот, как снег, проходит, смотри, смотри. Пастернак вообще любил писать о зиме, о Рождестве, о зимних праздниках. В романе «Доктор Живаго» зима — это революция, лихое время («лихое» — и залихватское, и бандитское, в разных значениях).
В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега…
Дмитрий Быков, написавший о Пастернаке огромную книгу[334], построил ее по принципу сезонности: зима, весна, лето, осень. Цикличность — самая важная вещь для понимания пастернаковской лирики, ключ и к его прозрениям, и к его нелепостям. Правда, пастернаковский климат — умеренно-континентальный; его, как правило, не вышибало в космические пустыни, за пределы земного жара и мороза. Этим он отличается от Хлебникова и Мандельштама…
Но вернемся к зиме.
«Рождественская звезда», приписанная Пастернаком доктору Живаго (щедрый подарок автора герою!)[335], по моему мнению, лучшее стихотворение и у того, и у другого. Начинается его замысел в сцене на елке у Свентицких, когда Живаго думает: «…Просто надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом». «Как у голландцев» — значит, как на картинах голландских мастеров, то есть со всяческими бытовыми деталями, выражениями лиц и всем прочим, что делает картину правдоподобной. Получается рассказ очевидца, взволнованная речь о рождении маленького Сына Божьего.
Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.
«И холодно было»… Мы внутри. Чувствуем тепло и холод. Теперь посмотрим издалека, другими глазами:
Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.
Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.
Словно смещается камера, фиксирующая эпизоды этой экранизации рождественского сюжета! И причем — экранизации не «глянцевой», а настоящей, подробной. Детали — «оглобли» и «постельная труха» — и есть доказательства этой подлинности.