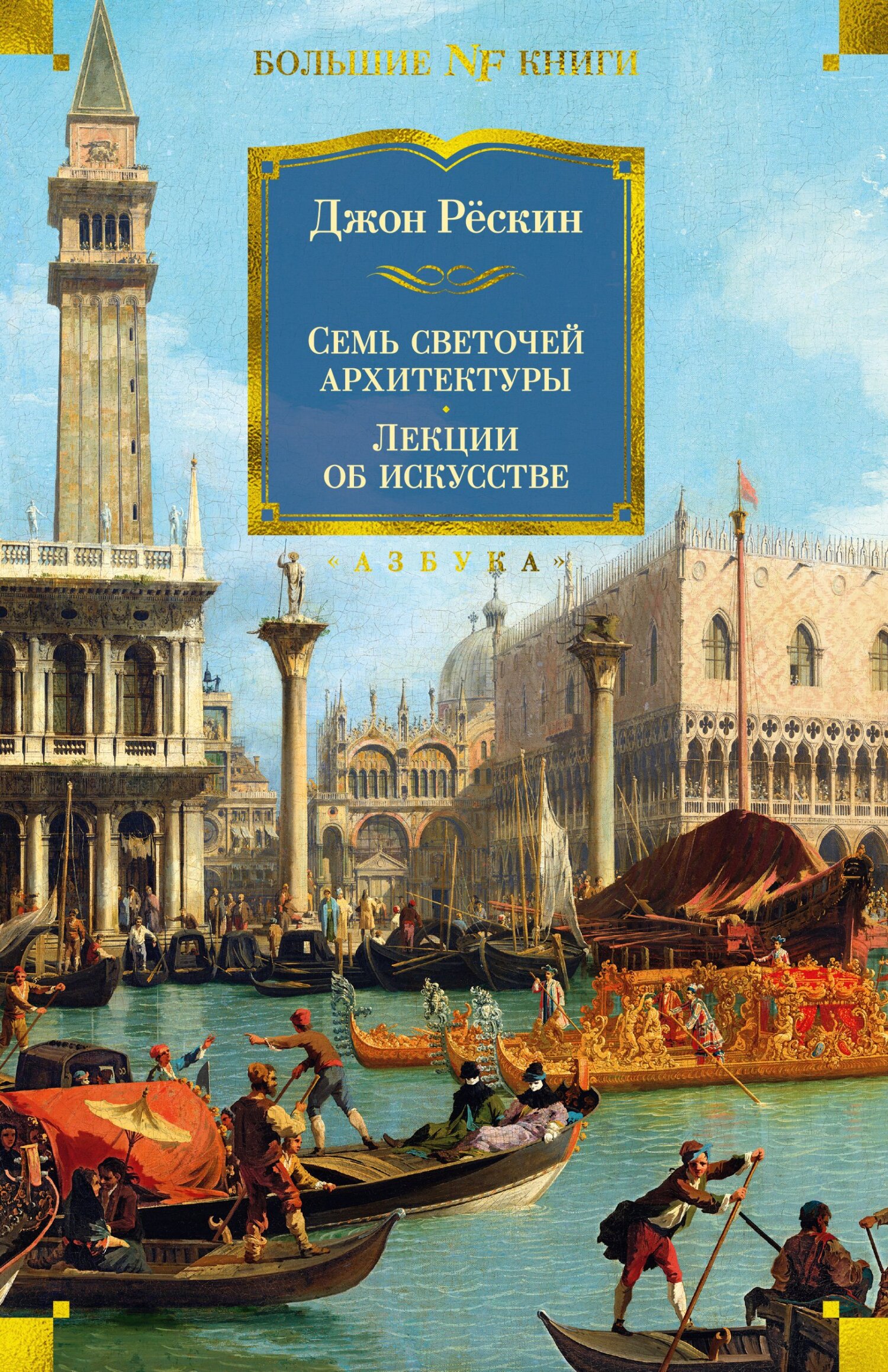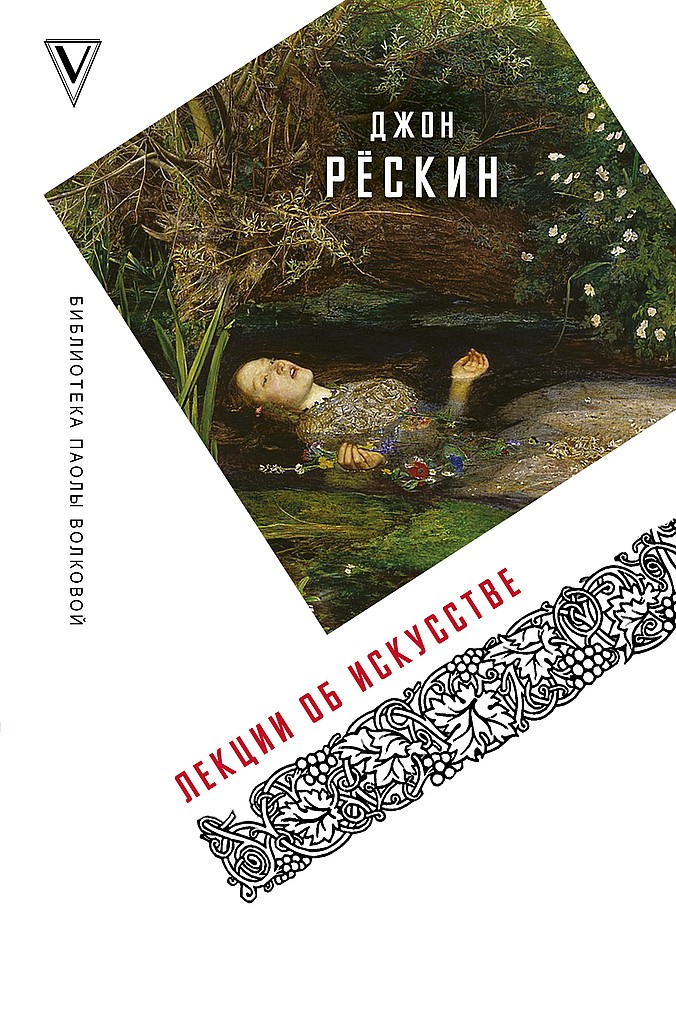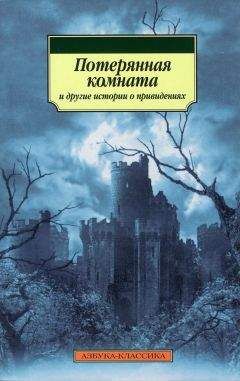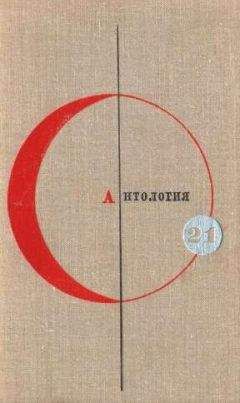чумой и войной – войной, в которой было осуществлено крупное приобретение территорий, обязанное как тонкой и удачливой политике в Ломбардии, так и знаменательному своей непоправимостью бесчестью, подкрепленному в сражениях на реке По в Кремоне и на болотах Караваджо. В 1454 году Венеция первой из христианских держав покорилась туркам; в том же году была учреждена государственная инквизиция, после чего ее правление принимает вероломный и загадочный характер, каковым оно обычно и воспринимается. В 1477 году великое турецкое нашествие принесло террор на берега лагуны, а в 1508-м образование Камбрейской лиги ознаменовало период, обычно определяемый как начало упадка венецианского могущества, однако коммерческое процветание Венеции на исходе XV столетия затмевает от историков прежнее свидетельство ослабления ее внутренней стабильности.
И здесь мы видим явное совпадение между установлением аристократическо-олигархической власти и упадком благосостояния государства. Но в этом и заключается тот самый спорный вопрос, и он, как мне кажется, ни в коей мере не определен ни одним из историков или же определен всеми ими в соответствии с их личными предубеждениями. Вопрос этот троякий: во-первых, не была ли олигархия, установленная усилиями личных амбиций, причиной – в ее последующей деятельности – падения Венеции; или (во-вторых) не явилось ли установление олигархии само по себе не причиной, а знаком и свидетельством ослабления национальной мощи; или (наконец) не была ли история Венеции написана, как я склонен полагать, почти без всякого упоминания и об устройстве Сената, и о прерогативах дожа? Это история народа, живущего в необычайном согласии с самим собой и ведущего свое происхождение от римлян, давно закаленных в невзгодах и верных своему принципу жить достойно – или умереть; в течение тысячи лет они боролись за жизнь, в течение трех веков они призывали смерть. Борьба их была вознаграждена, и зов их был услышан.
На всем протяжении становления Венеции ее победы и, в разные периоды, ее безопасность покупались ценой личного героизма, и человек, который прославлял или спасал ее, мог быть и королем (чаще всего), и аристократом, и гражданином. Ни для него, ни для нее это не имело значения: реальный вопрос заключается не столько в том, какое имя он носил или какими полномочиями обладал, сколько в том, как был воспитан, как становился хозяином самому себе и слугой своей стране, насколько был терпим к невзгодам и нетерпим к бесчестью и какова была истинная причина изменения, происшедшего с тех времен, когда Венеция могла находить спасителей среди тех, кого сама же бросала в тюрьмы, и до того, как голоса ее собственных сыновей приказали ей подписать договор со Смертью.
На этом побочном вопросе я бы хотел заострить внимание читателя, дабы он держал его в памяти на протяжении всех наших дальнейших исследований. Он придаст удвоенный интерес каждой детали, и интерес этот не окажется бесплодным, ибо доказательство, которое я смогу вывести из венецианского искусства, будет и часто встречаемым, и неопровержимым. Это доказательство того, что упадок политического процветания Венеции в точности совпадал с упадком общегосударственной и личной религии.
Я сказал «общегосударственной и личной», ибо – и это второй пункт, который я бы рекомендовал читателю не упускать из виду, – самым любопытным явлением во всей венецианской истории является живучесть религии в частной жизни и ее отмирание в национальной политике. На фоне воодушевления, рыцарства или фанатизма других европейских держав Венеция от начала до конца стоит, как живая статуя в маске: ее холодность непроницаема, настороженность просыпается в ней лишь при задевании тайной пружины. Этой пружиной были ее коммерческие интересы – единственный мотив и всех ее важных политических актов, и постоянства национальной вражды. Она могла бы простить оскорбление своей чести, но никак не соперничество в торговле; славу своих побед она исчисляла по их денежному выражению, справедливость же оных оценивала по их легкости. Молва об успехе живет, мотивы же предпринятых усилий забываются; и поверхностный исследователь истории Венеции, возможно, будет удивлен, если ему напомнить, что поход, который возглавил благороднейший из ее правителей и результаты которого изрядно прибавили ей военной славы, был именно тем походом, в котором, пока вся Европа вокруг опустошалась огнем религиозного рвения, Венеция первым делом просчитала самую высокую цену, которую могла взыскать из своего пиетета перед поставляемым ею вооружением, а затем, ради расширения личных интересов, моментально отступилась от своих взглядов и предала свою религию, направив орудия крестоносцев против христианского государя.
И тем не менее среди разгула национальной преступности нас снова и снова будут поражать проявления самого благородного личного чувства. Слезы Дандоло были пролиты отнюдь не из лицемерия, однако они не затмили от него важность завоевания Зары. Склонность приписывать религии непосредственное влияние на все свои поступки и повседневные дела примечательна для каждого знатного венецианца эпохи процветания государства; и не надо далеко ходить за примерами, когда личные чувства граждан распространяются на сферу политики и даже становятся направляющей силой ее курса там, где весы целесообразности сбалансированы весьма сомнительно. Я искренне полагаю, что будет разочарован тот исследователь, который попытается выявить какие-то более действенные причины принятия курса папы Александра III против Барбароссы [37], нежели пиетет, порожденный характером их просителя, и благородная гордость, вызванная надменной наглостью императора. Но душа Венеции являет себя лишь в самых дерзновенных из ее консулов; ее мирской, суетный дух всегда отвоевывает господство, если она успевает просчитать вероятность выгоды или когда выгода настолько очевидна, что ее не нужно просчитывать; и полное подчинение личного пиетета национальной политике не только примечательно во всей едва ли не бесконечной череде предательств и тираний, благодаря которым расширялась и укреплялась ее империя, но и ознаменовано каждым единичным обстоятельством в ее градостроительстве. Я не знаю ни одного европейского города, главной достопримечательностью которого не был бы собор. В Венеции же главной церковью была капелла при дворце ее правителя и называлась Chiesa Ducale [38]. Патриаршая церковь, небольшая по размеру и скудная по убранству, расположилась на самом дальнем от центра островке венецианской группы, и ее название, равно как и местоположение, по всей вероятности, неизвестно большей части путешественников, торопливо снующих по городу. Не менее достоин замечания и тот факт, что два самых главных после церкви Дожей храма Венеции обязаны своими размерами и великолепием не государственным усилиям, а энергии францисканских и доминиканских монахов, поддерживаемых обширной организацией их влиятельных общин на италийском материке и поощряемых