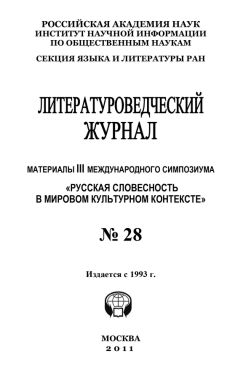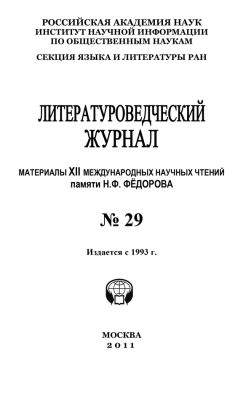Конец речи совмещает imitatio apostoli и imitatio angeli ‐ Тредиаковский снова показывает смирение и непротивление: «…сию Речь, на сих листках написанную, в ваше отдаю рассмотрение, прося, да соблаговолите в ней неправильное исправить, недостаточное наполнить, непринадлежащее надлежащим украсить, лишнее вон вынять; и сим образом из неслаткия, зделать ея хотя несколько пошлою, и приятною»20.
Тредиаковский не боялся трудностей, занимая должность в Академии с обязанностями вычищать русский язык: «…и трудность в нашей должности не толь есть трудна, чтоб побеждена быть не возмогла. Одно тщание, одна ревность, одна неусыпность от нас требуется. Можнож дать и способ, чрез который тщание, ревность, и неусыпность непреминуемо иметь мы будем. Верьте мне, когда о труде памятовать не станем; когда хвалы, славы, и общия пользы желать станем; когда не для того будем жить, чтоб не трудиться, но ради сего станем трудиться, дабы и по смерти не умереть: тогда нечувствительно привыкнем и пристрастимся к тщанию, ревности, и неусыпности»21. По сути дела, Тредиаковский в данном отрывке обращается к жанру светской проповеди, тематическим ключом для реконструкции которой являются библейские аллюзии. Так, призыв к ревностному служению отсылает нас к «Посланиям апостола Павла»: «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дела ваши и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования» [Евр. 6. 10–12]. Призыв к тщанию может быть интерпретирован через «Первую книгу Ездры»: «Все, что повелено Богом небесным, должно делаться со тщанием для дома Бога небесного» [1 Езд. 7. 23]. Возлагая на себя обязанности ревнителя русского языка, Тредиаковский приравнивает свою деятельность к апостольской. Избрав путь ученого и писателя – просветителя народов – Тредиаковский заручается авторитетом Священного Писания и Предания, исторического прошлого России, ее культуры, искусства, в том числе и языка, конечно, церковно-славянского.
К.М. ВИЛАНД В РЕЦЕПЦИИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
С.А. Салова
История восприятия Виланда в России является малоизученной областью как в отечественной компаративистике, так и в истории художественного перевода. Благодаря капитальной статье Р.Ю. Данилевского, опубликованной еще в 1970 г. в сборнике «От классицизма к романтизму», значение «непререкаемого» получил тот факт, что «первые упоминания о Виланде в русской печати и первые переводы его произведений относятся к концу 1770-х годов»1. Впрочем, исследователь вполне допускал, что Виланд «был известен в России тем читателям, которые владели немецким языком, задолго до появления переводов»2. Данилевский специально указал также на ту особую роль, которую сыграли русские масоны в популяризации нравоучительных и чувствительных сочинений Виланда. Творчество же Державина, никогда не поддававшегося на приглашения вступить в масонские ложи, вплоть до настоящего времени остается фактически вне поля зрения исследователей проблемы «Виланд в России».
Между тем есть основания полагать, что Державин был в числе тех первых заинтересованных читателей и поклонников Виланда в России, которые предвосхитили восторженное отношение к сочинениям этого немецкого автора со стороны многих отечественных представителей сентиментализма и предромантизма. Означенное обстоятельство заостряет необходимость научной постановки вопроса об особенностях творческого освоения Державиным поэтико-философского наследия Виланда. Оговорим особо, что речь пойдет о художественном преломлении «виландовского» компонента в образной системе, тематике и содержательном наполнении нескольких конкретных стихотворений Державина, созданных им в разное время и впоследствии включенных в сборник «Анакреонтических песен» 1804 г.
Следы знакомства с сочинениями Виланда, как нам представляется, обнаруживает уже ранняя любовная лирика Державина, точнее – те четыре стихотворения на любовную тему («Объявление любви», «Пламиде», «Всемила», «Нине»), создание которых обычно относят к 1770 г. Первое из них утверждает идеал одухотворенной любви, понятой как взаимное движение навстречу друг другу, как глубокая внутренняя связь вплоть до полного слияния душ: «Что с тем сравнится восхищеньем, / Как две сольются в нас души?»3 Только такая любовь осмысляется как причастная к божественному, как единственно способная возвысить человека и уравнять его с богами: «Любовь лишь с божеством равенство / Нам может в жизни сей дарить»4.
Неоплатонический пафос подобных лирических излияний вполне очевиден. Поэтическая мысль Державина подпитывалась из источника платоновской мудрости и при создании следующих трех лирических миниатюр, каждая из героинь которых оказалась в центре конкретной любовной коллизии, персонифицируя при этом соответствующий тип любви земной, плотской. Воссозданные здесь модели интимного поведения женщины категорично отвергались условным автором как противоречащие прокламированному ранее этическому идеалу взаимоотношения полов в сфере чувства.
Пламида представлена как жрица продажной любви, чей прагматизм и жажда денег расценивается как фактор, вульгаризирующий и в конечном счете истребляющий любовное чувство, что и произошло с условным автором стихотворения: «Но слышу, просишь ты, Пламида, / В задаток несколько рублей: / Гнушаюсь я торговли вида, / Погас огонь в душе моей»5. Пунктирно намеченная в следующем микросюжете любовная драма прекрасной Всемилы, покинутой соблазнившим ее мужчиной, осмыслена сквозь призму четких и жестких этических критериев: «Так! Добродетелью бывает / Сильна лишь женщин красота»6.
В последнем из названных выше стихотворений резкими, нервическими мазками поэт воссоздал динамический портрет женщины, подверженной приступам любовной лихорадки. Условный автор призывает Нину излечиться от граничащей с безумием болезненной страсти, открыть душу для другой любви, платонической, «без всяких сладостных зараз», обещая, что только при этом условии «будет вечен наш союз»7.
Прямолинейный морализм ранней любовной лирики Державина, его остро критическое отношение к феномену любовного аффекта и экзальтации имели под собой определенные нравственно-философские основания. В этой связи считаем возможным предположить знакомство поэта не столько с трудами самого Платона, сколько с теми этическими императивами, которые провозгласили в своих сочинениях виднейшие неоплатоники – теоретики так называемого «морального чувства» («moral sense»). Ключевую роль в приобщении начинающего русского поэта к достижениям новейшей европейской этической мысли сыграло раннее творчество Кристофа Мартина Виланда, представлявшего в немецкой литературе XVIII в. так называемую «линию сердца».
Содержательное наполнение четырех лирических миниатюр, созданных Державиным в 1770 г., обнаруживает концептуальную близость к некоторым идеям Виланда, сформулированным им в трактате 1754 г. «О симпатии», автор которого предстал энергичным популяризатором идей Платона и Шефтсбери. Наполненное религиозно-сентиментальными настроениями, это сочинение представляло собой экстатический монолог-проповедь о «сродстве» чувствительных, «симпатических» душ и о возникающей между ними некой тайной связи. Выше уже отмечалось, что моралистические суждения молодого Виланда оказались как нельзя более созвучны русским масонам. Вполне закономерно поэтому, что первый перевод данного сочинения на русский язык, опубликованный во второй части журнала «Утренний свет» за 1778 г., принадлежал перу М.Н. Муравьёва.
Не исключено, что в числе русских читателей, ознакомившихся с моралистическим опусом Виланда еще в оригинале, был Державин, вполне способный обходиться без услуг переводчика с немецкого. Не приходится сомневаться, что, подобно Муравьёву, он исключительно близко воспринял ту мысль о высоком назначении земной красоты, которая красной нитью прошла через все семь частей виландовской статьи, придав ей концептуальную целостность и завершенность. Приведем полностью соответствующую развернутую цитату из перевода Муравьёва: «Красота есть обещание души; сим обязуется она производити великия, благородныя и достойно подражаемыя действия. Она есть прелесть, принуждающая учителя добродетели внимати; ибо красавица долженствует быти учительницею примерами, даемыми ею; добродетель, одеянная красотою, входящая в среду человеков, обращающаяся с ними, и пред очами их действующая, нравится более, нежнее касается, и в сердцах глубже следы впечатлевает, нежели все правила мудрых… Благонравие является несравненно прелестнее в нежном румянце, играющем на прекрасных ланитах; чувствия и порядок, показующия благость сердца, любезнее слышатся из розовых уст… Красота и мудрость, соединяся во едино, сильны тронуть невнимающих и толико прилепленных к телесным чувствам, что не могут любити добродетели в собственном ея виде»8. Приведенная цитата делает очевидной близость этической позиции Державина к идеалистическому представлению Виланда о тождественности добродетели и красоты. Этот постулат, в конечном счете, и послужил надежной семантической скрепой, придавшей целостность и идейно-композиционное единство лирической тетралогии начинающего поэта.