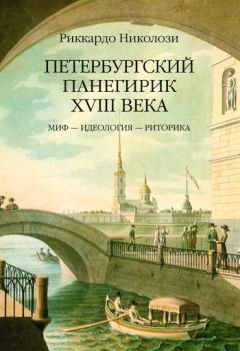Конкретные элементы пейзажа (лес и болото) наделяются хаотической коннотацией[74]. Лес оборачивается непроходимой, суровой «дебрью»:
Приятный брег! Любезная страна! <…>
О! прежде дебрь, се коль населена!
[Тредиаковский 1752: 287]
Не видно полуночных блат,
Лесов не видно непроходных, <…>
При Бельте преогромный град.
[Сумароков 1767: 164]
Где знали прежде дебрь, вседневны дивы зрят.
[Державин 1790]
Доселе, дебри где дремали,
Там убран сад, цветет лицей.
[Бобров 1803: 112]
Вода царит безгранично. Она, как правило, мутная, грязная. Земля и вода еще не отделены друг от друга и образуют зыбкую, непрочную поверхность, бесформенное, раздробленное единство, которому противопоставлена незыблемость нового города. Это находит выражение в повторениях не только существительного «болото» (или «блато»), но и «мох», «ил», «житка грязь»:
Где болота, лесы где, там мы зрим палаты,
Житка преж где грязь была, там те тверды златы,
Зрятся и крепости там <…>.
[Stahlin 1736: 4][75]
В сем месте было прежде блато
Теперь сияет тамо злато
На башнях щастия творца.
[Сумароков 1765: 91]
Где ил тонул под серым мхом <…>.
[Бобров 1803: 112]
Где ил взрастал, там луг зеленый.
[Селявин 1803: 5]
Безраздельно царящая вода может, однако, пребывать и в вечном, бушующем движении[76] – в состоянии, хотя и противопоставляемом состоянию «болотистости», но в равной мере не создающем условий для человеческой жизни:
Возведен его рукою,
От Нептуновых свирепств,
Град, убежище к покою,
Безопасный бурных бедств.
[Сумароков б. г. в: 4][77]
Представление субстанции хаоса в виде Праокеана, из которого вычленяется космос в виде суши, весьма распространено в космогонических мифах[78]. Так, в вавилонском эпосе о сотворении мира «Энума элиш» бог Мардук убивает «Мать бездны» соленую воду Тиамат и создает мир из ее рассеченного тела. Отождествление (женской) природы хаоса с первоначальными водами происходит и в Книге Бытия, где Праокеан получает имя «техом» (греч. бфиааос;, лат. Abyssus, рус. бездна). Правда, здесь Праокеан не уничтожается, а побеждается: подчиненный власти Бога, он становится орудием его гнева[79].
Сумароков чаще, чем другие поэты, обращался к картинам водного хаоса, которые он явно предпочитал образу первозданного болота:
На грозный вал поставив ногу,
Пошел меж шумных водных недр
И, положив в морях дорогу,
Во область взял валы и ветр,
Простер премудрую зеницу
И на водах свою десницу,
Подвигнул страхом глубину,
Пучина власть его познала,
И вся земля вострепетала,
Тритоны вспели песнь ему.
[Сумароков 1743: 62]
В этой строфе изображается космогонический акт, посредством которого демиург, явно отсылающий к библейскому тексту, покоряет первобытную стихию, состоящую из бушующей, угрожающей, бездонной водной массы («грозный вал»; «шумные водные недра»; «пучина»). Несмотря на отсутствие упоминания об основании города, здесь различима аллегорическая связь с историческими обстоятельствами, предшествовавшими основанию Петербурга: вытеснение шведов из дельты Невы. Праокеан предстает аллегорией побежденных врагов, признающих власть Петра и подчиняющихся ему («Пучина власть его познала»; «Тритоны вспели песнь ему»)[80].
В позднем панегирике появляется другая форма изображения предгородского хронотопа, в которой акцент смещается на «холод»:
Петром основанный, преславный ныне град,
Где прежде царствовал единый только хлад.
[Богданович 1773: 43]
Леса, где царствовал лишь хлад,
Где страх и ужас обитали,
Отягчены плодами стали,
Преобращась в веселый сад.
(Аноним 1785, цит. по [Boele 1996: 29])
Места безплодны, хладны, мертвы.
[Селявин 1803, 3]
Здесь говорится прежде всего о наступательном освоении Севера, о превращении враждебных человеку земель в райский сад. По замечанию Буле, Петербург часто предстает в панегирике как северный Эдем, не подразумевающий никаких ассоциаций с географическими условиями реального Севера [Boele 1996: 28ff.].
Благодаря демиургическому акту Петра I[81] нерасчлененная, бесформенная материя обретает форму, порядок, свет. Вода и земля отделяются друг от друга: на суше поднимается «твердый» город, то есть из болотистой, рассеянной горизонтальности образуется упорядоченная, плотная вертикальность. Акт творения сиюминутен, вневременен и состоит из единства логоса (слова и мысли) и дела:
Сто лет уже, как град священный
Возник из тьмы ничтожной в свет.
И кто? какой сей дух небесный,
Дух приснопамятный в веках,
Одушевя недвижный прах,
Воздвигнул стены толь чудесны?
Немврод? – Орфей? – иль Озирид?
Нет – Петр, полночный наш Алкид.
[Бобров 1803: 110]
Используя предромантическую метафорику, сплетающую оппозицию «город – природа» с оппозицией «жизнь – смерть», Бобров описывает, как Петербург возник из мрака и безжизненного праха. Сказуемое «возник» передает мгновенность события, подхватывающего два библейских мотива: сотворение света («из тьмы ничтожной в свет») и вдыхание жизни в прах земной («одушевя недвижный прах»).
Изображение похожей «внезапности» находим мы и у Сумарокова:
Возведен Его рукою,
От Нептуновых свирепств,
Град, убежище к покою,
Безопасный бурных бедств.
[Сумароков б. г. в: 4]
Одним мановением руки воздвигается город, противостоящий бушующему морю[82]. Покоритель водной стихии и его творение не называются по имени: написанное с заглавной буквы местоимение («Его») и нарицательное имя существительное («Град») намекают на мифические обстоятельства творческого акта, в которых богоподобное существо[83] создает вещи небывалые и исконные, и потому их родовое наименование равнозначно их имени собственному[84].
Космогоническая топика проявляется особенно явственно в позднепанегирической поэзии начала XIX в. Наряду с процитированной выше строфой Боброва заслуживают упоминания следующие стихи Селявина:
И вдруг из сей Хаоса бездны
Соделался новейший свет! —
Отец Отечества любезный
Громовых силою побед
Стихии рушил неустройство,
В натуре водворил спокойство,
Смирил кичливых сопостат.
[Селявин 1803: 4]
Здесь мы сталкиваемся с мифологизацией основания города как творческого акта в чистой форме: из «бездны Хаоса» возникает «новейший свет» благодаря демиургической деятельности Петра, вносящей структуру и порядок в бесформенное («Стихии рушил неустройство»).
Если основание города – акт творения, то созданный город – его итог, результат и само «творение», существующее вне всякого процесса развития или роста. Город не строится, он стоит с самого начала во всем своем совершенстве и великолепии. Самое известное поэтическое воплощение этой мифологемы, многократно служившее образцом для подражания, принадлежит перу Ломоносова: внезапность возникновения города вызывает у удивленной Невы мысль о том, что она сбилась с привычного пути:
В стенах внезапно укрепленна
И зданиями окруженна,
Сомненная Нева рекла:
«Или я ныне позабылась
И с оного пути склонилась,
Которым прежде я текла?»
[Ломоносов 1747: 117]
Согласно другому варианту того же топоса, Петербург настолько совершенен, что кажется, существует уже на протяжении многих столетий и поэтому каждый раз вызывает восхищение иностранных гостей:
Идеже ни помысл кому был жительства человеческого, достойное вскоре устроися место престолу царскому. Кто бы от странных зде пришед и о самой истине не уведав, кто бы, глаголю, узрев таковое града величество и велелепие, не помыслил, яко сие от двух или трех сот лет уже зиждется? [Феофан Прокопович 1716: 45]
Несмотря на то что в Петровскую эпоху утверждается топическая мифологема совершенного, на пустом месте возникшего города (или невероятной быстроты, с которой он был построен), она соперничает в первых текстах петербургского панегирика с другим, противоположным осмыслением развития города, не отрицающим, а оправдывающим архитектурную незавершенность Петербурга и видящим в его несовершенстве залог великого будущего. Например, Стефан Яворский в проповеди о первой «сени», которую апостол Петр хотел построить для Христа (Мф. 17: 4)[85] – здесь в алле-горезе Яворского имеется в виду Санкт-Петербург, который «второй» апостол Петр, Петр I, в отличие от своего патронального святого, велел-таки построить – приводит доводы в оправдание несовершенства новооснованного города: