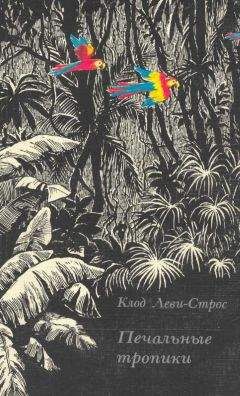На небе появились многочисленные, подернутые дымкой сплетения; казалось, они были растянуты во всех направлениях: горизонтальном, наклонном, перпендикулярном и даже по спирали. Солнечные лучи, по мере того как они угасали (ни дать ни взять смычок, наклоненный или поднятый, перед тем как коснуться нужных струн), поочередно зажигали сначала одно, потом другое переплетение цветовой гаммой. В первый момент каждое из них представало четким, определенным и хрупким, но прочным как армированное стекло. Затем постепенно оно растворялось, как если бы его перегретая пламенем материя, сгущая краски и теряя свою индивидуальность, расстилалась все более тонкой пеленой, пока совсем не исчезла со сцены, давая дорогу новым, только что возникшим переплетениям. В конце концов остались одни лишь неясные краски, переходящие одна в другую. Так цветные жидкости разной плотности сначала располагаются в бокале одна над другой, а затем медленно начинают перемешиваться, несмотря на кажущуюся устойчивость.
После этого стало очень трудно следить за зрелищем, которое, казалось, повторяется с разрывом в несколько минут, а иногда и секунд в отдаленных точках неба. На востоке, как только солнечный диск коснулся противоположного горизонта, внезапно на большой высоте проступили окрашенные в ядовито-сиреневые тона облака, до тех пор невидимые. Это зрелище быстро развернулось, обогащаясь деталями и оттенками, затем начало исчезать справа налево, как бы стираемое уверенным и медленным движением чьей-то руки. Через несколько секунд остался лишь глянцевый сланец неба ниже укрепления из облаков. Их окраска переходила в белые и серые тона, тогда как небо розовело. Со стороны солнца пламенела уже новая полоса. По мере того как ее красные излучения слабели, многоцветье зенита, которое еще не сыграло свою роль, медленно становилось объемным. Его нижняя поверхность позолотилась и вспыхнула, верхушка, прежде сверкающая, окрасилась в каштановые и фиолетовые тона. Все строение предстало как бы под микроскопом: тысячи мелких волокон, словно поддерживаемые скелетом, образовали пухлые формы.
Теперь прямые лучи солнца совсем исчезли. На небе оставались лишь розовый и желтый цвета: креветка, лосось, лен, солома, но и эта неброская гамма тоже рассеялась. Небесный пейзаж возрождался в сочетании белого, голубого и зеленого. Однако кое-где на горизонте еще продолжалась недолговечная и независимая жизнь. С левой стороны незаметная дымка внезапно обозначилась причудливым смешением таинственных зеленых тонов, которые постепенно перешли в красные цвета — сначала ярких, потом темных, фиолетовых и, наконец, угольных тонов. И вот уже нет ничего, кроме неровной линии, оставленной угольным карандашом на зернистой бумаге. Позади небо было в желто-зеленых альпийских тонах, а полоса оставалась непроницаемой, с резким контуром. На западной стороне неба небольшие золотые горизонтальные бороздки еще посверкали минуту, но на севере была уже почти ночь: бугристое укрепление являло собой лишь беловатые выпуклости под известковым небом.
Ничто не кажется столь таинственным, как совокупность всегда одинаковых, но не предсказуемых в своей комбинации переходов, посредством которых ночь приходит на смену дню. Ее печать появляется на небе внезапно, сопровождаемая неуверенностью и тревогой. Никто не способен предугадать, какую форму примет — и только в этот единственный раз — приход ночи. Какая-то непостижимая алхимия превращает каждый цвет в свои бесчисленные варианты, тогда как хорошо известно, что на палитре для этого нужно открыть не один тюбик. Однако возможности ночи смешивать краски безграничны, ибо ее спектакль — феерия: розовый цвет неба переходит в зеленый. Оказывается, я не обратил внимания, что некоторые облака сделались ярко-красными, из-за чего небо по контрасту представляется уже зеленым, хотя на самом деле оно было розовым, но очень бледного оттенка, который не может дольше бороться с чрезвычайно резким свойством нового цвета. Его я не заметил потому, что переход от золотистого цвета к красному вызывал меньшее удивление, нежели от розового к зеленому. Итак, ночь наступает словно обманом.
Вакханалию золота и пурпура ночь начинала подменять их отражением, заменяя теплые тона на белые и серые. На небосводе медленно открылся морской пейзаж из громадного заслона облаков, растягивающихся в виде параллельных полуостровов, — ни дать ни взять плоское песчаное побережье с вытянутыми в море косами — вид, часто открывающийся с самолета, летящего на небольшой высоте и накренившегося на крыло. Эта иллюзия усиливалась последними отсветами дня, которые, освещая под очень острым углом облачные острия, придавали им рельефный вид. Облака стали походить на незыблемые скалы, вылепленные тоже светом и тенями, но уже в другие часы, как если бы светило устало работать своими сверкающими резцами по порфиру и граниту и принялось за немощные воздушные материалы.
По мере того как небо очищалось, на фоне облаков, походивших на прибрежный пейзаж, появились пляжи, лагуны, множество островков и песчаных мелей, заполненных инертным небесным океаном, покрывавшим фьордами и внутренними озерами распадавшуюся пелену. И потому, что небо, окаймляющее эти облачные стрелы, подделывалось под океан, а море, как обычно, отражало цвет кеба, небесная картина воспроизводила отдаленный пейзаж, на фоне которого снова будто бы село солнце. Впрочем, достаточно было взглянуть на настоящее море, находящееся внизу, чтобы отвлечься от этого миража: оно уже не было ни пылающей пластиной полдня, ни грациозной и курчавой поверхностью послеполуденного времени. Лучи света, падавшие почти горизонтально, освещали лишь лицевую, обращенную к ним сторону небольших волн, тогда как другая их сторона была совершенно темной. Таким образом вода становилась рельефной, с четкими тенями, подчеркнутыми углублениями, как в металле. Прозрачность исчезла.
И тогда, как это бывает обычно, но всегда неуловимо и мгновенно, вечер уступил место ночи. Все изменилось. В небе, непрозрачном на горизонте, а выше — мертвенно-желтом и переходящем в синеву у зенита, развеялись последние облака, приведенные в движение окончанием дня. Очень скоро они превратились в тощие, болезненного вида тени наподобие подставок для декораций. Так после спектакля на уже не освещенной сцене вдруг замечаешь убожество, непрочность и недолговечность декораций, понимаешь, что действительность, иллюзию которой им удалось создать, была вызвана не их природой, а каким-то трюком освещения или перспективы. Только что они жили и менялись каждое мгновение, а теперь казались застывшими в скорбной форме посреди неба, готовые слиться с его возрастающей темнотой.
В Дакаре мы распрощались со Старым Светом и, миновав острова Зеленого Мыса, достигли того рокового седьмого градуса северной широты, где во время своего третьего путешествия в 1498 году Колумб, взявший верное направление на Бразилию, склонился к северо-западу и каким-то чудом две недели спустя не прошел мимо Тринидада и берегов Венесуэлы.
Мы приближались к зоне экваториального штиля — к «ловушке», устрашавшей мореплавателей прежних времен. Ветры, дующие в двух полушариях, стихают на подходе к этой зоне, таи что беспомощно повисшие паруса неделями не оживлялись ни единым дуновением.
Из-за совершенно застывшего воздуха кажется, что находишься в закрытом пространстве, а не на морском просторе; темные тучи, недвижность которых не нарушается ни малейшим ветерком, опускаются вниз под собственной тяжестью и медленно распадаются на части у самого моря. Своими свисающими краями они подметали бы его гладкую поверхность, будь их инертность не столь велика. Освещенный сквозь них лучами невидимого солнца океан отсвечивает маслянистым и монотонным блеском, отсутствующим у неба, чернильный цвет которого нарушает обычное световое соотношение между воздухом и водой. Запрокинув голову, видишь более правдоподобный морской пейзаж, словно небо и море поменялись местами. По ставшему совсем близким небосклону — настолько пассивна стихия и ослаблено освещение — лениво бродят несколько шквалов — невысоких и расплывчатых колонн, еще более скрадывающих мнимую высоту, отделяющую от моря покрытый тучами небосвод. Корабль среди этих сближающихся поверхностей скользит с какой-то тревожной торопливостью, как если бы ему грозила опасность задохнуться за пределами отмеренного времени, Иногда проходит шквал: приближаясь, он становится бесформенным, заполняет пространство и бичует палубу своими влажными узкими и длинными ремнями. Затем, оказавшись по другую сторону корабля, он вновь обретает зримую форму, одновременно утрачивая звуковую суть.
Море лишилось всякой жизни. Перед носом корабля, прочно и размеренно разрезавшего волны, бьющие о форштевень, больше не просматривался черный бурун, оставляемый стаями дельфинов, грациозно опережающих белопенный бег волн. Горизонт больше не разрезала струя фонтана, выпускаемого дельфином-великаном; из интенсивно синего моря совершенно исчезла даже флотилия наутилусов с их нежными перепончатыми парусами сиреневого и розоватого тонов. Уж не ждут ли нас по другую сторону «ловушки» все те чудеса, что предстали перед мореплавателями прошлых веков? Бороздить девственные просторы океана их влекло не столько стремление открыть какой-либо новый мир, сколько желание удостовериться в истинности событий древности. Они нашли подтверждение мифов об Адаме и Еве, об Одиссее. Когда во время первого путешествия Колумб подошел к берегам Антильских островов, он, может быть, верил тому, что достиг Японии, но еще больше — тому, что нашел земной рай. Четыре столетия, прошедшие с тех пор, не в силах были уничтожить тот громадный разрыв со Старым Светом, благодаря которому в течение десяти или двадцати тысячелетий Новый Свет оставался в стороне от бурных событий истории. Здесь существовало, по-видимому, что-то другое. Я быстро узнал, что если Южная Америка не была больше Эдемом до грехопадения, то она все еще оставалась «золотым веком» по крайней мере для тех, кто имел деньги. Рай для людей, каким он виделся Колумбу, продолжался и одновременно погибал в сладкой жизни, предназначенной одним лишь богачам.