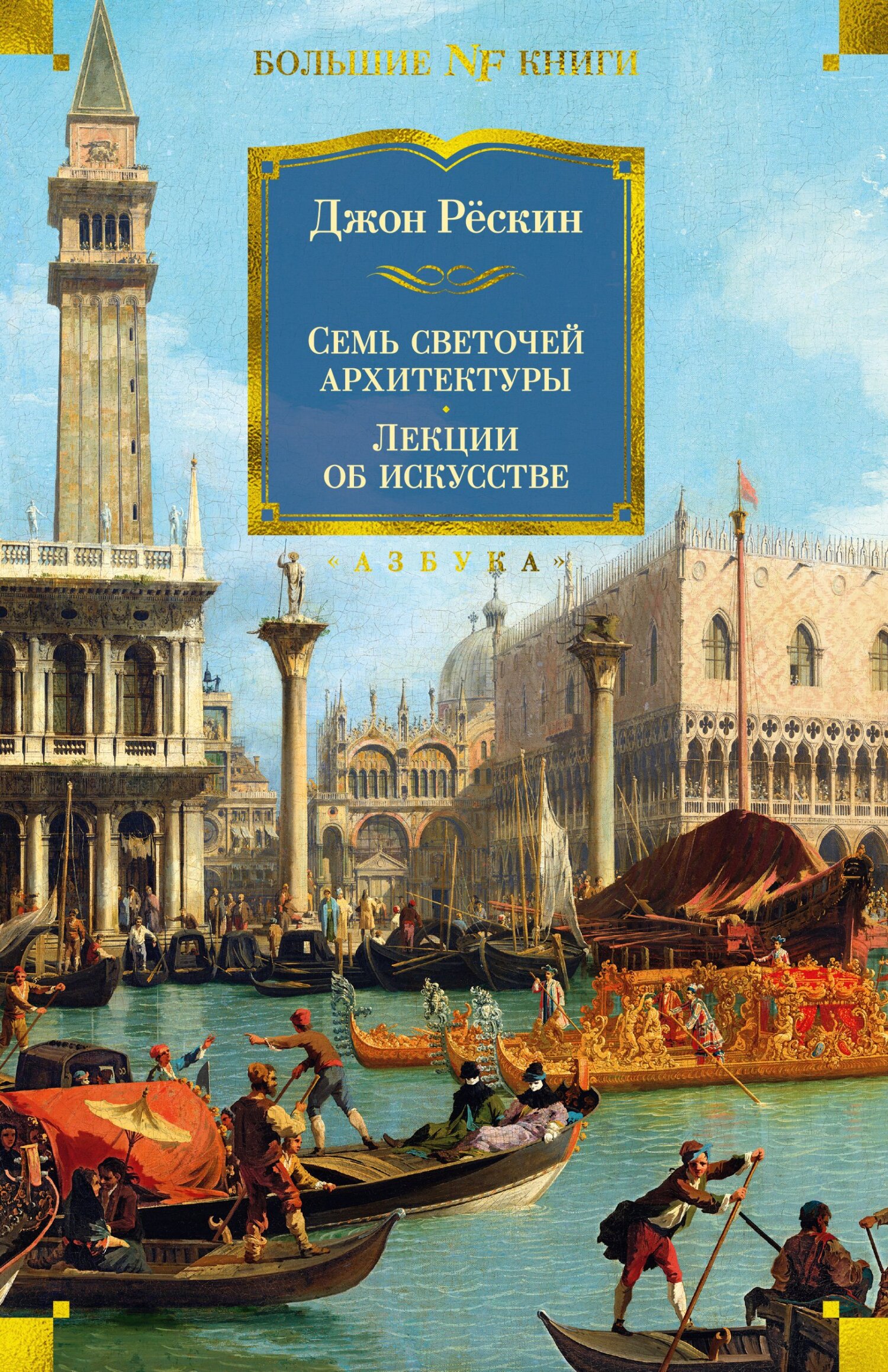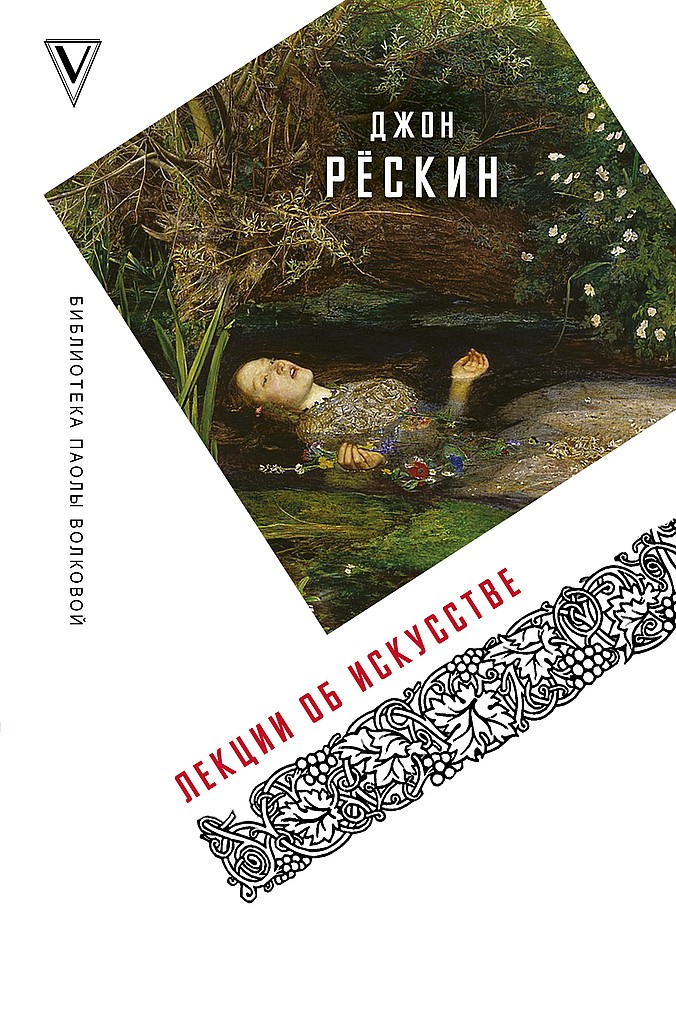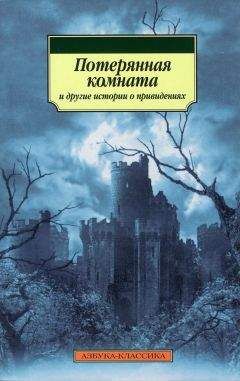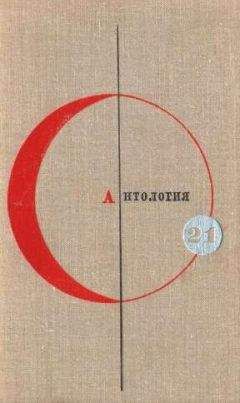был изгнан из Венеции за подлог.
В дальнейшем мне еще будет что сказать о творчестве этого мошенника, но сейчас я, как и обещал, перейду ко второму, не столь значительному, зато более любопытному примеру свидетельских показаний.
Дворец дожей имеет два главных фасада: один выходит на море, другой – на Пьяцетту. И морской фасад, и – до седьмой главной арки включительно – фасад, обращенный к Пьяцетте, были возведены в самом начале XIV столетия, а частью, возможно, и раньше; вторая же половина стены со стороны Пьяцетты – в XV. Разница в возрасте горячо оспаривалась венецианскими антиквариями, изучившими великое множество документов по этому предмету и цитировавшими ряд таких, коих они и в глаза не видели. Сам я сопоставил бóльшую часть письменных документов с документом иного рода, сослаться на который не додумался ни один из венецианских антиквариев, – это каменная кладка дворца.
Характер кладки меняется в середине восьмой арки от морского угла на стороне Пьяцетты. До этого места камень сравнительно невелик; далее без всякого перехода начинается работа XV века с использованием более крупного камня, «доставленного из Истрии, за сотню миль отсюда». Девятая колонна от моря в нижней аркаде и семнадцатая прямо над ней – в верхней открывают ряды колонн XV века. Обе они несколько толще других и поддерживают стену Сала дель Скрутинио [42]. И здесь, читатель, удвоим внимание. Фасад дворца от этого места до Порта делла Карта был построен по настоянию достославного дожа Мочениго, того самого, у гробницы которого мы только что побывали, по настоянию оного и в начале правления его последователя Фоскари, то есть около 1424 года. Этот факт под сомнение не ставится – под сомнение ставится лишь то, что морской фасад возведен раньше, чему, однако, имеются доказательства столь же простые, сколь и неоспоримые, ибо начиная с девятой нижней колонны меняется не только каменная кладка, но и скульптурные украшения, в том числе и скульптурные украшения капителей колонн как нижней, так и верхней аркад: одеяния фигурок, размещенных на морском фасаде, типично джоттовские и соответствуют одеяниям на фресках Джотто в падуанской капелле дель Арена, тогда как на других капителях они выполнены в ренессансно-классическом стиле; подобным же образом меняется и характер львиных голов между арками. Множество других свидетельств, коими я сейчас не буду мучить читателя, имеется и в статуях ангелов.
Так вот, зодчий, работавший при Фоскари в 1424 году (не забывайте, что начало падения Венеции я отношу к 1418 году), был вынужден придерживаться главных форм более старой постройки. Но у него не хватило ума придумать новые капители в том же стиле, и поэтому он тупо копировал старые. Дворец имеет семнадцать главных арок на морском фасаде и восемнадцать – со стороны Пьяцетты, поддерживаемых – общим числом, разумеется, – тридцатью шестью колоннами, каковые я буду нумеровать исключительно справа налево: от угла дворца у Понте делла Палья [43] до угла возле Порта делла Карта. При таком порядке нумерации первыми окажутся самые старые колонны. В результате под номерами 1, 18 и 36 окажутся главные опоры на углах дворца, а первая в ряду колонн XV века – то есть, как было сказано ранее, 9-я от моря на стороне Пьяцетты – в общем ряду окажется 26-й и так будет нумероваться впредь; соответственно, все номера после 26-го будут обозначать работу XV века, а все до него – XIV, не считая отдельных случаев реставрации.
Отсюда следует, что 28-я капитель была скопирована с 7-й, 29-я – с 9-й, 30-я – с 10-й, 31-я – с 8-й, 33-я – с 12-й и 34-я – с 11-й, остальные же являются бестолковыми изобретениями XV века, за исключением 36-й, весьма благородной по замыслу.
Капители более старой части дворца, отобранные для воспроизведения, в дальнейшем будут тщательно описаны вкупе с остальными; единственный момент, который я должен здесь отметить, касается копии 9-й капители, декорированной (будучи, как и все прочие, восьмигранной) фигурками восьми добродетелей: Веры, Надежды, Милосердия, Справедливости, Умеренности, Мудрости, Бедности (венецианцы именуют ее Человеколюбием!) и Силы. У добродетелей XIV века живые, выразительные лица с несколько грубоватыми чертами; облачены они в простые будничные одежды того времени. Любовь восседает с полным подолом яблок (или хлеба), угощая одним из них ребенка, протягивающего ручонку сквозь разрыв в лиственном узоре капители. Сила раздирает отверстую львиную пасть; Вера прилагает руку к груди, словно она узрела Крест Господень; Надежда молится, а над ее головой виднеется рука, проступающая в лучах солнца, сиречь десница Божья (прямо по Откровению: «Господь Бог освещает их» [44]); надпись наверху гласит: «Spes optima in Deo» [45].
И вот эта-то композиция грубо и неумело копируется мастерами XV столетия: вместе с грубыми чертами ли́ца добродетелей утрачивают и живость выражения, зато обретают римские носы и курчавые волосы. Жесты и символы, однако, сохраняются в прежнем виде, пока дело не доходит до Надежды: она все так же молится, но молится только солнцу – десница Божья исчезла.
Уж не тот ли это взыскующий и разящий дух, что воцарился тогда над миром, обходит вниманием десницу Божью, проглядывающую в лучах дарованного Им света, с тем чтобы в итоге, когда этот свет, с одной стороны, приведет к Реформации, а с другой – к всестороннему изучению античной литературы, первая была приостановлена, а вторая извращена?
Такова природа случайного свидетельства, на которое я буду опираться для доказательства несовершенства характера зодчих эпохи Ренессанса. Но доказать несовершенство самого зодчества не так-то просто, ибо здесь я вынужден обращаться к суждениям, искаженным самим же ренессансным зодчеством.
Ну а теперь пройдемте со мной, а то я слишком уж долго продержал вас на берегу, – пройдемте со мной в это осеннее утро к низкой пристани, или причалу, у кромки канала, с длинными ступенями по обеим сторонам, спускающимися к самой воде, из коих последние поначалу кажутся нам почерневшими от гнили, однако более пристальный взгляд выводит нас из заблуждения – их просто не видно из-за обилия черных венецианских лодок. Сядем в одну из них – не столько с