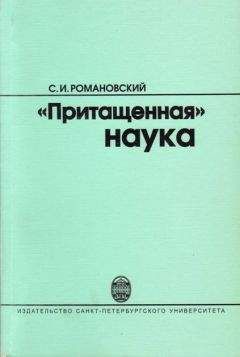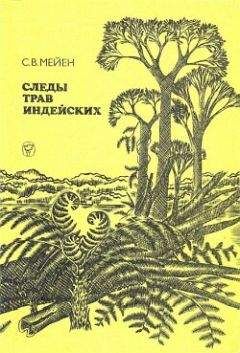Раз наука государственная, извольте платить! Подобная позиция стала для научной номенклатуры традиционно удобной. Ведь советские ученые привыкли, по словам Л.А. Арцимовича, «жить на ладони государства и согреваться его дыханием».
А нужны ли они этому самому государству, этот вопрос не поднимался, ибо сказать да – значит выдать желаемое за действительное, и все это прекрасно понимали; сказать нет – пришлось бы доказывать эти слова, что практически невозможно сделать, ибо любой оппонент с легкостью выведет тебя в заоблачные выси государственной демагогии и, само собой, выставит клеветником. Но, как бы там ни было, два слова придется сказать и на эту тему.
Ранее, при царе, о востребовании достижений науки вообще речь не шла, наука с экономикой не стыковалась. При советской власти стали понимать, что достижения науки не должны повисать в воздухе, их надо использовать. Появилось новонайденное словцо: внедрение. Внедряли в основном для отчетности: в каждой тематической разработке был раздел о «внедрении» результатов в народное хозяйство, Академия стала заключать договора с заводами и колхозами.
Одним словом, шли откровенные игрища в «полезность» любых научных результатов. Партийное начальство это вполне устраивало, а тот факт, что реального влияния на экономику страны экстенсивно развивавшаяся советская наука не оказывала, коммунисты отвергали напрочь. Лишь в годы перестройки об этом стали говорить открыто. Привело же подобное положение к тому, что стала бросаться в глаза отчетливая диспропорция между величиной накопленного страной научного потенциала и явно недостаточным уровнем достигнутой во всех сферах практической организации жизни общества: на производстве, в сельском хозяйстве, медицинском обслуживании, уровне образования и т.д.
Что тут долго говорить: практическая жизнь людей в Советском Союзе так и не стала зависимой от достижений науки.
Тогда же, в конце 80-х годов, стали открыто писать о том, что по многим позициям советская наука оказалась в хвосте мирового прогресса. Однако до причин докапываться не стали, занялись более привычным делом – поиском «врага». И занялось этим научное чиновничество. Аппарату истина была не нужна. Аппарат должен был сохранить свою невинность. И полились обличительные реки. Госплан все беды связывал с оторванностью от реальных нужд страны академической науки, а Академия наук бичевала недальновидный практицизм деятелей промышленности. Причем «чистоту своей формулы», как сказал бы Е.Н. Трубецкой, отстаивали не нобелевские, а ленинские лауреаты, достойные представители научной и государственной бюрократии.
Теперь – факты.
На начало «перестройки» львиную долю ассигнований получала, так называемая, прикладная, или отраслевая наука (~ 90 %) и лишь около 10 % доставалось фундаментальной науке, т.е. институтам Академии наук СССР.
В процентах от национального дохода на науку расходовалось: в 1970 г. – 4 %, 1980 г. – 4,8 %, 1985 г. – 5 %, 1987 г. – 5,5 %. (Это, само собой, без военных затрат) [666].
А вот где эти расходы «осваивались». В 1987 г. в СССР вместе с вузами было 5089 научных учреждений, из них чистых НИИ – 2649. В этих самых НИИ в 1986 г. значилось 4546 тыс. человек.
Если науку распределить по отраслям, то, по данным Г.А. Лахтина, к концу 1986 г. в промышленности СССР работало 1552 научных учреждения, в сельском хозяйстве – 909, в здравоохранении – 471. Заметим, кстати, что у разных авторов общая численность работавших в НИИ на начало «перестройки» колеблется от 4,5 до 8 млн. человек [667]. Последняя цифра явно завышена.
В РСФСР была сосредоточена львиная доля научных учреждений СССР – 4646 (~ 60 %), из них НИИ – 1762 (на 1990), затем, согласно отмеченным нами парадоксам, по мере нищания науки число НИИ росло и в 1994 г. их уже было в целом по России 2166 [668].
Итак, расходы на науку в СССР к 1990 г. оценивались в 2,1% от валового внутреннего продукта и были вполне сопоставимы с западными мерками: Япония тратила на науку 2,98%, ФРГ – 2,88%, США – 2,82%, Франция – 2,34% [669]. С другой стороны, расходы на науку в США с 1980 по 1985 год росли более чем на 7 %, а с 1985 по 1991 г. всего на 1,2 % в год. Если же проценты обратить в наличные деньги, то выяснится, что США на свою науку расходуют больше, чем Япония, ФРГ, Франция и Англия вместе взятые [670].
Дальнейшая расшифровка этих цифр покажет, к примеру, что на фундаментальную науку даже в 1986 г. США тратили в 20 раз больше средств, чем Советский Союз [671]. И еще один немаловажный нюанс: отдавая приоритет фундаментальной науке, в США тем не менее более всего поддерживают так называемые «науки о жизни» (Life science), т.е. биологию, медицину и сельскохозяйственные науки, ориентированные прежде всего на человека. По сумме финансирования в академическом секторе эти науки поглощают 53% средств, тогда как на физику, химию и все прочие естественные науки ассигнования не превышают 15% [672].
Так как человек в России никогда не был самодостаточной ценностью, то можно с большой долей уверенности утверждать, что Life science не станут приоритетными для русской науки. Для нас традиционная ценность – это сила, т.е. ВПК, а потому когда экономика России будет в состоянии финансировать нашу национальную науку в достаточном объеме, то, скорее всего, львиная доля расходов будет вновь направлена на накачку мускульной силы государства. Эта «особость» российской науки, судя по всему, неискоренима.
Итак, когда в 1991 г., особенно после путча ГКЧП, руководство страны убедилось, что всё уже они «перестроили», то решили начать демонтаж социалистического наследия, но так, чтобы рядовой гражданин вообще потерял всяческие ориентиры, чтобы он не успел очухаться и на протестующий митинг собраться… А, впрочем, кому какое дело до этого самого рядового гражданина? Ведь за «реформы» взялись молодые люди, которые не страдали «комплек-сом обратной связи». Они все делали по учебникам, делали точно так же, как «там у них на Западе» и назад не оглядывались.
Что же произошло в 1992 г.? Россия в том году, как известно, свернула с наезженной колеи плановой экономики на рыночное бездорожье. Как только были «отпущены цены», они стремительно пошли ввысь, причем за их ростом бюджет явно не поспевал. Быстро выявились монополисты в энергетике, связи, коммунальном хозяйстве и т.д. Это и явилось секирой, которая отсекла от науки главное – исследовательский процесс. Если в 1991 г. на научные исследования тратилось 50% бюджетных средств, то уже в 1992 г. всего 3%, а 97% поглощали коммунальные платежи и нищенская зарплата. Причем бюджетом 1992 г. на науку было предусмотрено лишь 2,6% от валового продукта, что покрывало всего 16% от нужных затрат [673]. Это и есть обвальное обнищание.
Наука на это отреагировала мгновенно: только за 1992 г. численность научных кадров сократилась на 380 тыс. чел., а доля занятых наукой в общей массе трудовых ресурсов страны, которая и в былые времена не достигала 4%, резко снизилась. Начался процесс интеллектуальной деградации общества [674]. В 1993 г. ситуация ухудшилась: ассигнования на науку в сравнении с 1990 г. упали в 10 раз. В 1994 г. бюджетом была предусмотрена уж вовсе никчемная доля расходов на науку – 0,6% от внутреннего валового национального продукта, что сопоставимо с оценкой значимости науки в странах Африки. Из этой мизерной суммы 48% уходило на зарплату, 35% на коммунальные услуги и лишь 17% на саму научную ра- боту [675]. Естественно стало уменьшаться число научных сотрудников Академии наук. На 1 января 1995 г. оно составляло 59,6 тыс. Причем «искажения в структуре “человеческого потенциала” науки приняли такие масштабы, что его воспроизводство даже на нынешнем… уровне уже невозможно» [676].
Что это за искажения? Если не затрагивать нравственные аспекты человеческого потенциала, а обратиться к фактам, то выяснится следующее. Ориентация ученых по научным интересам, сложившаяся еще в советское время, сейчас не устраивает запросы общества. Наибольшее число ученых тогда было занято техническими (47,4%) и общественными науками (23,3%) [677]. В настоящее время именно эти отрасли знаний менее всего актуальны, поскольку технические науки, наиболее тесно связанные с промышленностью, по чисто российской «особости» никогда ею не востребовались, а сейчас и вовсе оказались никому по сути ненужными, а общественные науки в том виде, в каком они культивировались ранее, в настоящее время просто относятся к категории лженаук.
Есть еще один аспект «искажения». Касается он традиционной для советской науки погоне за «валом». Академик П.В. Волобуев отметил в этой связи, что «вал» планового роста научных кадров долгие годы подменял разумные критерии оценки их значимости. Мы искренне гордились тем, что у нас одних «остепененных» ученых более полумиллиона. «И старались не вспоминать, какова их отдача. Иначе пришлось бы признать, что, имея четвертую часть всех научных работников на планете, мы даем, по приблизительным экспертным прикидкам, не более 15 процентов научной продукции. А может быть и меньше» [678].