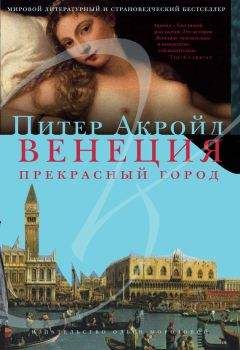Как бы там ни было, Венеция – часть Италии. Потеряв независимость, она лишилась прав и перестала быть хозяйкой собственной судьбы. Но, потеряв уникальность, не потеряла ли она и энергию? Пегги Гугенхейм однажды сказала, что «когда Венеция затоплена, она вызывает еще большую любовь». Подобно Офелии, она плывет, угасая, по воде, то отнимая, то вселяя надежду.
Однако Венеция постоянно подвергалась опасности, ее существование постоянно находилось под угрозой. Она – творение рук человеческих, зависящее от превратностей природы. И она не погибла. Вот это достойно подражания. Будем надеяться, что ее воля к жизни останется могучим источником энергии.
Здесь кончается исторический урок.
У подножья барочной колокольни церкви Санта-Мария Формоза над входом изваяна отвратительная маска со следами разложения и страдания. По словам Рёскина, «хорошо, что в этом месте мы можем увидеть и почувствовать полный ужас происходящего и знаем, какая погибель пришла и дохнула на ее (Венеции) красоту, пока она не исчезла». Для него деформированное лицо символизировало упадок Венеции начиная с эпохи Возрождения. На самом деле каменная маска гораздо интереснее. Она точно воспроизводит лицо человека, страдающего нейрофиброматозом, или болезнью Реклингхаузена.
Венеция ассоциируется со смертью и чумой. Она в значительной части является полуразрушенным городом, о его крошащийся кирпич и штукатурку плещется вода.
Джон Аддингтон Саймондс в «Венецианской мозаике» пишет, что «темная вода нашептывает нам на уши рассказы смерти». Венеция город теней. К тому же этот город связан с чумой и спрятанным ножом убийцы. В нем до сих пор существует Rio Terra degli Assasini (Переулок убийц). Самый известный рассказ, созданный в этом городе, – «Смерть в Венеции» Томаса Манна. Надгробная песнь Венеции к лицу. Венеция обречена. Об этом рассказывают волны. В городе поблекших камней Байрон размышляет об упадке.
Венеция! Когда тебя поглотят воды
И с морем мрамор твой сровняет власть времен, —
О, над тобой тогда заплачут все народы
И громко прозвучит над морем долгий стон[19].
Это место слизи, плесени и ила. Маринетти назвал Венецию «разлагающимся городом», «великолепной язвой прошлого». Для Рёскина она стала призраком на поверхности моря. Ее тишина зловеща. От ее развалин веет смертью более чем в других местах, так как на них не различить прикосновения природы, обещающей возрождение. Эти каменные развалины окончательны. Их не покроют ни мох, ни трава. Они являют собой то, что Шелли назвал «мрачной бесформенной грудой» камней. В «Последнем человеке» (1826) Мэри Шелли так описала подобную сцену запустения: «Прилив неохотно отхлынул от рухнувших порталов и оскверненных залов Венеции». Единственная судьба, ожидающая город, словно покинувший изменчивый мир времени, – Апокалипсис. Он должен затонуть, молча и навсегда погрузиться под воду. Этот образ города олицетворяет конец всех человеческих достижений и надежд. Уильям Вордсворт написал сонет о Венеции (1802), кончающийся словами:
Мы – люди! Пожалеем вместе с ней,
Что все ушло, блиставшее когда-то,
Что стер наш век и тень великих дней[20].
«Я не чувствую романтики Венеции, – говорил Рёскин отцу. – Это просто груда развалин». Венецианские хроники более давних времен полны рассказов о церквах, мостах или домах, внезапно рухнувших и превратившихся в груды пыли и битого камня.
В XVIII веке в городе распространился культ живописных руин. Руины там были даже в XIV веке. Многие дома были покинуты в плачевном состоянии и больше не восстанавливались. Разумеется, там нет античных руин, как почти во всех городах Италии – в этом отношении Венеция стоит особняком, – скорее можно говорить о медленном, но постоянном разрушении еще воспринимаемой красоты. Город лишен надежности великих городов древности. Вот почему упадок и разрушение в Венеции все же прекраснее большинства великолепных зданий в других местах. Они неотъемлемая часть ее особого очарования. Часть сладкой меланхолии быстротечности. Они напоминают человека, который движется к могиле.
Для Генри Джеймса Венеция была самой красивой в мире усыпальницей, где прошлое «похоронено с такой нежностью, такой печалью смирения». Церкви полны гробниц. Некогда существовала Сampiello dei Morti (площадь Мертвых), но название было изменено на campi ello Nuovo (Новую площадь). Некогда существовал Мост мертвецов, но теперь он называется Мост портных. А Calle dela Morte (улица Смерти) осталась. И все же кладбище тоже может стать метафорой. В XVIII веке Венецию называли «гробницей аристократов, в которой заперты здоровые люди».
Теперь рядом с городом есть остров мертвых, Сан-Микеле. Раньше там был монастырь, в котором занимались науками, но в XIX веке здесь было устроено кладбище, чтобы тела умерших более не находились вблизи живых. Трупы, уложенные в маленькие мраморные ящики, хранятся как бы в смертельном буфете. Церковь Сан-Микеле ин Изола, построенная почти четырьмя веками ранее, охраняла пространство, словно гроб повапленный. Число тел, покоящихся на кладбище, в несколько раз превосходит число жителей города. По прошествии некоторого времени тела вынимают из гробов, а скелеты отвозят на остров костей Сант-Ариано. Разве это не настоящая laguna morte (мертвая лагуна)? Меж черепов и костей снуют крысы и рептилии; среди разложения вырастают костяные цветы.
В Венеции существует культ смерти. Футуристы Италии верили, что этот город – храм поклонения смерти, с которой связано его основание и существование. В своем манифесте футуристы заявляли, что настало время «засыпать вонючие мелкие каналы обломками обветшавших зараженных старых дворцов». «Давайте сожжем гондолы, эти кресла-качалки для идиотов», – призывали они. Для них весь город был «огромной сточной трубой традиционализма».
Когда-то венецианские похороны поражали великолепием. С самого начала похоронные ритуалы города напоминали скорее ритуалы Египта или Ассирии, а не любого из итальянских городов. Тело покойного укладывали на пол, покрытый пеплом. Его родственникам полагалось продемонстрировать все пароксизмы горя, испуская вопли и стоны; по обычаю осиротевший супруг или супруга ложились на пороге, чтобы тело любимой или любимого не вынесли из дома; затем его или ее ритуально оттаскивали прочь. Тело обычно проносили по улицам города с открытым лицом и обнаженными ногами. Участники похоронной процессии несли хоругви и факелы, а комнаты дома покойного драпировались черным бархатом. Семья усопшего должна была громко рыдать на протяжении всей траурной церемонии. Это еще один пример восточного влияния на город. Того, кто умер девственником или девственницей, хоронили с зеленым венком на голове.
Всякий, кто видел фильм «А теперь не смотри» (1973), вспомнит катафалк, плывущий по воде в черной гондоле. Когда остров Сан-Микеле превратили в кладбище, возник обычай едва ли не триумфальных процессий к центру мертвых; появились траурные гондолы, предназначенные для этой цели, с пятью гондольерами в золоченых костюмах. Один из них стоял перед гробом с жезлом в руке, на носу и корме гондолы возвышались скульптурные изображения святых и пророков. Даже для более скромных похорон гондольеры надевали черные шарфы и кушаки, а гроб с катафалком был щедро украшен цветами.
В венецианских сказках и народных поверьях чувствуется болезненный интерес к смерти. Французский король Людовик XII сказал, что венецианцы слишком боятся смерти, чтобы выиграть войну; им присущ страх купцов перед насилием и ненадежностью. Город окружен остовами, на которые всегда высылали сумасшедших и прочих опасных для общества людей. В «Венеции» Джен Моррис написал: «Венецианцев зачаровывают мертвецы, ужасы, тюрьмы, извращенцы и уроды». Возможно, потому что сам город противоестественен и похож на тюрьму. Есть подозрение, что это мертвый город.
Некоторые люди, оказавшись в Венеции, физически чувствуют, что заболевают. Французский писатель Морис Барре заявил, что как только он вышел из вокзала и подошел к стоянке гондол – чувствуя на лице ветер лагуны, – понял, что напрасно понадеялся на хинин. «Я явственно ощутил, как внутри меня возрождаются к жизни миллионы бактерий… Повсюду в Венеции человек видит победу смерти», – написал он. Вагнер, ступив в гондолу, испытал схожие чувства.
Вагнер умер в Венеции. Стравинский умер во время шторма над лагуной. Здесь же скончался и Браунинг. И Дягилев. Некоторые умерли неподалеку. Данте умер в Равенне от лихорадки, которую подхватил в Венеции. Байрон решил закончить свои дни в этом городе, но ему помешали события, случившиеся в другом месте. Можно с определенной долей вероятности предположить, что в этом самом артистическом из городов умрет некоторое число артистов, но истина заключается в том, что люди, чтобы умереть, отправляются именно в Венецию. Генри Джеймс интуитивно ощутил фатальную притягательность города для страдающей Милли Тил в «Крыльях голубки». «Мне кажется, – говорит она, – здесь было бы приятно умереть». Есть что-то утешительное в смерти около воды, в городе, который сам находится в предсмертной агонии. Умереть в большом венецианском доме, как Вагнер или Браунинг, значит обрести огромный надгробный памятник, не тратясь на строительство. А неумолчный колокольный звон может послужить репетицией смерти.