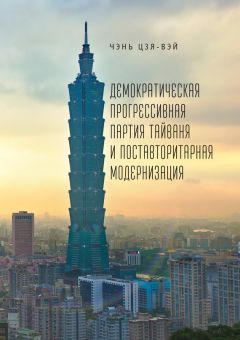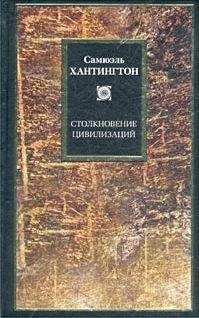До сего момента способность культурных ценностей и установок ускорять или блокировать прогресс по большей части игнорировалась. По моему мнению, внедрение стратегий по преобразованию ценностей в политическое планирование и программирование является довольно прочной гарантией того, что в следующие пятьдесят лет миру будет легче справляться с бедностью и несправедливостью, которые в последние полвека были столь хорошо знакомы большинству развивающихся стран и отстающим этническим группам.
I. Культура и экономическое развитие
Дэвид Ландес
Культура объясняет почти все*
Макс Вебер был прав. Главная мысль, которую можно вынести из истории экономики, заключается в том, что почти все в ней объясняется культурой. Доказательством тому служат успехи меньшинств в чужих землях: китайцев в Восточной и Юго-Восточной Азии, индийцев в Восточной Африке, ливанцев в Западной Африке, евреев и кальвинистов по всей Европе, и так далее. И все же культура, в смысле глубинных ценностей и установок, вдохновляющих массы, пугает ученых. Ее окружает терпкий аромат расы и почвы, ореол непререкаемости и незыблемости. Правда, в минуты прозрения экономисты, да и прочие специалисты-гуманитарии, понимают, что это еще не вся истина. И тогда они принимаются искать в культурах «хорошее» и «плохое». Но одобрение, как и осуждение, — позиция пассивного наблюдателя, неспособного использовать свои знания для совершенствования людей и вещей. Что же касается специалистов, для которых важна техническая сторона дела, то они предпочитают заниматься изменением залоговых и учетных ставок, внедрением свободы торговли, совершенствованием политических институтов. Их тоже можно понять: ведь критика культуры порой задевает эго и подрывает самооценку. В устах посторонних подобные выпады, какими бы тактичными и завуалированными они ни были, попахивают снисходительностью. Доброжелательные «преобразователи» стараются избегать подобных вещей.
Однако, если культура действительно так значима, то почему она «работает» избирательно? Экономисты, и не только они, без устали вопрошают, отчего некоторые народы — скажем, китайцы — издавна были столь бесталанными у себя дома и столь предприимчивыми за границей. Если все дело в культуре, то почему же ей не удалось преобразовать Китай? (Здесь, впрочем, стоит заметить, что при нынешней политике, которая не подавляет, а поощряет экономическое развитие, дисбаланс между успехами китайцев у себя дома и за границей начинает исчезать; нынешний Китай обеспечивает себе такие же феноменальные темпы роста, которые вывели конфуцианских «драконов» из «третьего мира» в «первый».)
Мой друг-экономист, специалист по экономико-политической терапии, разрешил этот извечный (а сейчас, вероятно, и вовсе немодный) парадокс, решив вообще не обращать внимания на культуру. Культура, по его словам, не позволяет делать точные прогнозы. Но я не согласен с такой точкой зрения. Принимая во внимание культурные факторы, послевоенные экономические успехи Японии и Германии вполне можно было предвидеть. То же самое верно в отношении Южной Кореи (в ее противопоставлении с Турцией) и Индонезии (в противопоставлении с Нигерией).
С другой стороны, культура — отнюдь не изолированное явление. Экономисты лелеют ту иллюзию, что рост можно обеспечить одним-единственным фактором, но во всяком комплексном процессе детерминанты, во-первых, множественны, а, во-вторых, взаимозависимы. Монокаузальные объяснения просто не будут работать. Одни и те же ценности, которые на родной земле (например, в Китае) портятся «бестолковой властью», прекрасно проявляют себя в других местах. Именно отсюда — особая удачливость предпринимателей-эмигрантов. Древние греки даже дали им специальное наименование: метэки, мастера-иностранцы, которые стали своеобразной закваской для обществ, презиравших стремление к наживе и занятия ремеслом. В такой среде изготовление материальных благ и добыча денег становились уделом пришлых.
Так как культура и экономическая деятельность взаимосвязаны, изменения одного отражаются на другом. В старом Таиланде было принято, чтобы добропорядочные молодые люди в течение нескольких лет жили послушниками в буддийских монастырях. Возмужание в подобной обстановке шло на пользу уму и воле; оно также вполне укладывалось в традиционные представления об экономической деятельности и занятости. Так было раньше. Сегодняшний Таиланд развивается совершенно иными темпами: торговля процветает, бизнес зовет. В итоге на духовное совершенствование молодежи теперь отводятся лишь несколько недель — период, достаточный для освоения минимума молитв и ритуалов, с которыми можно вернуться в реальный, материальный мир. Время, которое, как известно, еще и деньги, изменило свою относительную стоимость. И эту новацию никто не навязывал. Тайцы добровольно скорректировали свои приоритеты. (Уместно добавить, что во главе процесса шло китайское меньшинство.)
Тайский пример иллюстрирует способность культуры реагировать на экономический рост. Но возможно и обратное: в недрах культуры со временем может вызревать враждебное отношение к предпринимательству. Здесь показателен опыт России, где семьдесят пять лет антирыночной и антибуржуазной пропаганды насадили крайне враждебное отношение к частной инициативе. Даже сейчас, когда коммунистический режим рухнул, люди опасаются неопределенностей рынка и уповают на скуку государственного попечения. Они предпочитают равенство в бедности, присущее земледельческим культурам по всему миру. В одной русской сказке говорится о том, как мужик Иван завидовал другому мужику, Борису, поскольку у того была коза. Однажды появляется волшебница и предлагает Ивану исполнить любое его желание. И чего же, как вы думаете, он желает? Чтобы у Бориса коза сдохла.
К счастью, не все русские таковы. Упразднение марксистских запретов и ограничений повлекло за собой взрыв деловой активности, в основном со стороны нерусских меньшинств (армян, грузин и т. д.), частично развивавшейся в теневой и даже криминальной сфере. Этой закваски оказалось достаточно: предпринимательство пошло вглубь и вширь. Но в то же самое время сохранились старые привычки, коррупция и преступность цветут пышным цветом, культура пребывает в упадке; данные вопросы поднимаются в ходе каждой предвыборной кампании, и окончательный итог отнюдь не предрешен.
«Теория зависимости», Аргентина и метаморфоза Кардозо
«Теория зависимости» являла собой довольно удобную альтернативу культурным трактовкам отсталости. Латиноамериканские ученые, а также сочувствующие им зарубежные специалисты объясняли недоразвитость своих стран (на фоне процветания Северной Америки просто вопиющую) злыми кознями сильных и богатых соседей. Отметим, что обусловленная такой зависимостью уязвимость влечет за собой комплекс неполноценности: пораженная им нация уверена, что ее судьбой распоряжается кто-то другой. Нет нужды говорить, что этот другой использует якобы свое превосходство только для того, чтобы грабить зависимые государства, как это делали колонизаторы. А теперь на смену имперским разбойникам приходят империалистические хищники.
И все же поддержание существования независимых наций требует внешних заимствований и инвестиций; простое мародерство — не вариант. Аргентина, где уровень сбережений всегда был незначительным, а присутствие иностранного капитала, напротив, весьма высоким, не составляла здесь исключения. (Интересно, что создателем «теории зависимости» стал Рауль Пребиш, аргентинский экономист.) Некоторые ученые говорят о том, что иностранный капитал тормозит экономический рост; другие утверждают, что он способствует росту, но не столь значительно, как внутренние инвестиции. Разумеется, многое зависит от того, как использовать деньги. Между тем, едва ли кто-то готов отказаться от привлечения внешних средств на том основании, что они якобы неэффективны. Политики просто жаждут их, заставляя теоретиков «зависимости» потирать руки.
В Аргентине были богатые люди, однако «по причинам, так до конца и неясным… страна неизменно зависела от иностранного капитала и, следовательно, от государств-заимодавцев, причем таким образом, который серьезно ограничивал ее способность вести собственные дела».1 Англичане построили аргентинские железные дороги — менее 1000 километров к 1871 году и более 12000 километров двадцать лет спустя, — но приспособили их для собственных нужд. Однако можно ли создать подобную транспортную сеть, не стимулируя внутренний рынок? И если да, то чья в том вина? Какие выводы туг напрашиваются о состоянии местной предприимчивости? Большинство аргентинцев не задает подобных вопросов. Обвинять других всегда легче. Результат известен: антиимпериализм на грани ксенофобии и комплекс национальной неполноценности.