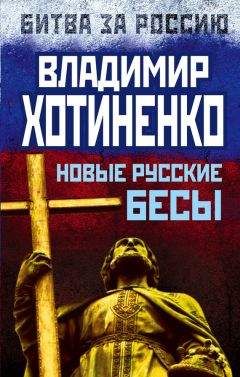340
В 1921 году факт подобного отношения к Достоевскому был зафиксирован одним из самых серьезных исследовате лей его творчества — А. Долининым. «При жизни Досто евский казался человеком определенной партии, — писал уче ный в предисловии к юбилейному сборнику, — современники соглашались или спорили с ним, как с равным, мерили его своей мерой: узкой и временной. Истинное понимание пришло уже после его смерти; в течение с лишком тридцати лет по наших дней Достоевского воспринимали почти исклю чительно со стороны идейной — как философа или религиоз ного мыслителя» 1. То обстоятельство, что на заре («кровавой заре») но вого века Достоевский многими художниками слова воспри нимался как Учитель и Мастер и очевидно влиял на их творчество, признается в советской критике с заметным раздражением. Привыкшая оперировать удобными и безопас ными идеологическими формулами «революционный» — «реак ционный», подобная охранительная критика с трудом перено сит любые аналогии с «Бесами», особенно если речь идет о позднейших революционных процессах. «Для иных из писателей Достоевский был своего рода «заколдованным местом», — иронизировал, например, П. Анто кольский, очень типично выразив «общий настрой», — топкой трясиной со светящимися гнилушками, но в то же время — «пророком». Все это прельщало многих испуганных 1905 годом интеллигентов — ренегатов марксизма, да и других, поправее. Книга Мережковского «Грядущий хам» была как бы красным светофором для таких обывателей и любителей «страшного». Наступившая вслед за 1905 годом реакция с ее карательными экспедициями и виселичными столбами была ими перетол кована в мистическом духе, напоминающем бредовую фан тастику «Бесов», зыбкую двуличную пропаганду Верховенско- го-младшего. Волна самоубийств, прокатившаяся по двум сто лицам и губернским центрам России, взывала к памяти ин женера Кириллова, другого персонажа «Бесов». Пахло пале ным, адской серой, шигалевщиной, содомом, который, как известно, Достоевский противопоставлял Мадонне» 2. Сам того не желая, поэт и критик констатировал: пахло шигалев- щиной не в текстах эпигонов Достоевского, а в атмосфере 1 Достоевский Ф. M. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина, Пг., 1922, с. 1. 2 Антокольский П. «Петербург» Андрея Белого. Послесловие. — кн.: Белый Андрей. Петербург. М., 1978, с. 335. В дальнейшем цитаты из романа даются по этому изданию.
341
русской жизни. Не Достоевский, не его «Бесы» и не их позднейшие интерпретаторы-последователи породили «ситуа цию Содома»: наивно клеймить их за то, что они сумели разглядеть некую опасную тенденцию. И уж совсем нет смысла упрекать «испуганных интеллигентов» в художествен ной несостоятельности подражаний: конечно же, сравнение с Достоевским мало кто мог и может выдержать без ущерба для себя. Вместе с тем такой упрек имеет, несомненно, иную цель. «Бывший петрашевец-фурьерист, бывший каторжанин, — продолжает П. Антокольский, — Достоевский жил внутри сво его времени и оттого был шире и дальновиднее, чем иные его последыши десятых годов нашего века, которые хватались за Достоевского, как тонущие хватаются за доску от чужого корабля, и безнадежно тонули в грозной диалектике «Бесов». Вот отчего задолго до Великого Октября был безнадежно детерминирован их общий удел, так непоправимо обрекший их на эмиграцию после Октября» 1. Замечание многоаспект ное — здесь и намерение, слегка обелив фурьериста — Досто евского, оставить его в своем историческом времени, здесь и оскорбительное в адрес «последышей» обвинение в бес помощности перед лицом приближающейся катастрофы, здесь и отчетливо различимый акцент на чужеродности «Бесов» новому этапу революционного движения («доска от чужого корабля»), здесь и весьма дозированная «дань» роману («гроз ная диалектика»), здесь и злорадно-назидательное «так вам и надо», брошенное вдогонку писателям-эмигрантам… Можно было бы привести длинный список имен и цитат, поставивших своей задачей навеки разделаться с «Бесами» как с махровой реакцией и ложным пророчеством, впрочем, для вида признав некоторые, «отдельно взятые», удачи романа. Можно было бы провести параллель или сформулировать почти математическую зависимость общего тона и оценок «Бесов» от состояния идеологического климата в его колебаниях между «оттепелями» и «заморозками». Можно было бы определить истинные мотивы тех иных интерпретаторов, кто считал своим партийным долгом всякий раз, охаивая роман, демон стрировать личную приверженность «прогрессу». Можно было бы заметить, что подавляющее большинство интерпретаций сходится на одном центральном пункте — заклинании: бесы — 1 Антокольский П. «Петербург» Андрея Белого. Послесловие. — В кн.: Белый Андрей. Петербург. М., 1978, с. 335.
342
не мы, мы — не бесы, «Бесы» — про других, про нас — не «Бесы». И можно было бы поразиться, насколько упор ным, слепым, почти фанатическим было стремление разъеди нить «Бесы» и исторические уроки из этого романа, делая вид, что уроков этих не было или они имели место в разных других местах. Но в таком случае осуществление всех возможных исследований переросло бы в глобальный разго вор, далеко выходящий за рамки литературоведения и лите ратурной критики. К тому же процитированное высказывание П. Антокольского концентрированно выразило многое — и по содержанию, и по тону, и по подтексту… Между тем пророчества и предостережения «Бесов» были для русской культуры нового столетия отнюдь не «доской с чужого корабля», а своей бедой — родной и кровной. Надо ли удивляться тому, что «Петербург», роман о русской революции вообще и о революции 1905 года в част ности, написанный рукою одного из крупнейших художников и теоретиков символизма Андреем Белым, испытал сильней шее влияние Достоевского? Современник Андрея Белого, его друг и союзник, которо му роман «Петербург» обязан своим названием и в доме кото рого он был создан, Вячеслав Иванов писал в 1916 году: «Мне кажется порой, что я вижу все несовершенство гени ального творения Андрея Белого, его промахи и уродливости, какую-то неумелость или недовершенность тут, натянутость или безвкусие там, в иных местах пустоты и пробелы худо жественной разработки, замаскированные пестрыми, только декоративными пятнами, часто, слишком часто злоупотребле ния внешними приемами Достоевского, при бессилии овладеть его стилем и проникать в суть вещей его заповедными пу тями (Достоевский для Андрея Белого вообще, по-видимому, навсегда останется книгой под семью печатями), и все же я не хотел бы, чтобы в этом полухаотическом произведении была изменена хотя бы одна йота» 1. В этом искреннем признании, вряд ли совершенно бес спорном, хотелось бы подчеркнуть одну существенную деталь: «злоупотребление внешними приемами Достоевского». Конечно же, самое прямое отношение это имеет к «злоу потреблению» «Бесами». 1 Иванов Вячеслав. Ук. соч., с. 619. Двумя годами раньше, в 1914 г., С Н. Булгаков утверждал: «Петербург»…оказывается как бы прямым продолжением «Бесов», и это тем более поразительно, что, очевидно, лишено преднамеренности» (Булгаков С. Русская трагедия. — «Русская мысль», 1914, кн. IV, с. 6).
343
Обратимся к «внешним приемам». В центре романа Андрея Белого «Петербург» — драма интеллигентского сознания в эпоху революции. Именно через это сознание преломляются реальные приметы октябрьских событий 1905 года — митинги, демонстрации, казаки, расстре лы. Интеллигент-аристократ и его взаимоотношения с рево люционной партией, пытающейся вовлечь в свою деятельность «полезных» людей, — таков один из главных сюжетных ходов романа. Так же, как и в «Бесах», выбор партии (или ее пред ставителей) падает на красавца аристократа; как говорил Петр Верховенский, «аристократ, когда идет в демократию, обаятелен!». Впрочем, сын петербургского сенатора Николай Аполлоно вич Аблеухов, студент-философ, неокантианец, не окончивший, однако, курса, во многом уступает своему тезке и литератур ному прототипу. И даже не только уступает, а просто-таки проигрывает: ассоциации с «героем-солнцем» из романа Досто евского, нарочитые, детально узнаваемые, как будто нарочи то же снижены, а порой и спародированы. В сопоставлении с красавцем Ставрогиным, лицо которого порой напоминает маску, внешность Николая Аблеухова, «стройного красавца шафера», влюбившегося в невесту у венца, а затем в замуж нюю даму, опасно колеблется между красотой и уродством с большим уклоном как раз в уродство: «…отличался невзрач ным росточком, беспокойными взглядами улыбавшегося лица; когда погружался в серьезное созерцание, взгляд окаменевал: сухо, четко и холодно выступали линии совершенно белого лика, подобного иконописному; благородство в лице выявлял лоб — точеный, с надутыми жилками: пульсация жилок на лбу отмечала склероз». Двуликость, зыбкость, неопределен ность облика предопределяют жизненную драму: «— «Красавец», — слышалось вокруг Николая Аполлоно- вича… — «Античная маска…» — «Ах, бледность лица…» — «Этот мраморный профиль…» Но если бы Николай Аполлонович рассмеялся бы, то сказали бы дамы: — «Уродище…» И когда Софья Петровна Лихутина, та самая дама, которую поразил «стройный шафер, красавец», заметила, «что лицо Николая Аполлоновича превратилось в маску: бесцельные потирания потных рук, и лягушачье выражение