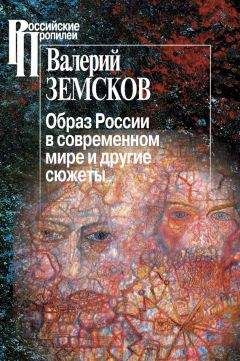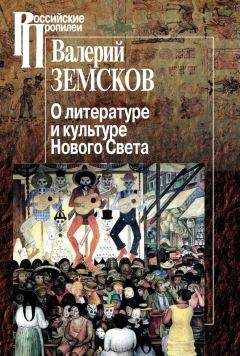Лучший, на мой взгляд, роман Газданова – «Призрак Александра Вольфа» – роман-метафора, распространяющаяся на все поколение. Это было недострелянное поколение, они все могли быть убиты. Каким-то образом выжили, доехали, но все тяжело раненные, в метафорическом смысле. Согласно одной из мифологем – универсалий, недоубитый человек – это ненормальность, аномалия, которая портит жизнь, и сам человек мается в этой жизни. Потому, в конце концов, происходит убийство (доубиение) в «Призраке Александра Вольфа»: нельзя жить полутрупом и полутрупу.
С. А. Кибальник убедительно выявил в физическом облике и в характере творчества Вольфа аллюзии на Набокова[346]. В то же время выстрел в Вольфа – это выстрел и в оборотня, и в себя, чтобы убить в себе гниющий труп и возродиться[347].
Еще один вопрос для будущих решений – отношения «молодых» писателей с европейской, французской жизнью слова, культуры, воздействие на них французских писателей. Роль этого цивилизационного «зазора», естественно, не могла не быть очень существенной (сюрреалисты, М. Пруст, А. Жид, Л.-Ф. Селин и др.). Канадский литературовед Л. Ливак написал хвалу эмигрантскому опыту «молодого поколения». Из того, что мы знаем реально о нем – из текстов Поплавского, Газданова, Набокова (беру самых ярких) этого не следует, «не вытекает». Не была эмиграция «художественным благословением», не превзошли они «прежнюю привязанность к родине»[348].
Сказать так – расписаться в том, что не читал книг писателей, о которых пишешь. Что уж говорить о Газданове, всю жизнь писавшем по-русски! Приведем шестой из «Неправильных ямбов» Набокова, написанных во второй половине 50-х годов:
Есть сон. Он повторяется, как томный
стук замурованного. В этом сне
киркой работаю в дыре огромной
и нахожу обломок в глубине.
И фонарем на нем я освещаю
след надписи и наготу червя.
«Читай, читай» – кричит мне кровь моя:
Р, О, С, – нет, я букв не различаю.[349]
Лукавил Набоков. Потому и написал эти стихи, что слово «Россия» жгло память.
Приведем суждение Г. Адамовича: «Запад сиял перед ней [русской эмиграцией. – В.З.] во всем своем прочном, многовековом ореоле <…> Но если бы нас спросили: то ли это, что вы имеете? – ответ был бы: нет, не то. Дома на Западе мы не были»[350]. И никак не слилась «идеальная модель русского писателя воедино с идеальной фигурой писателя послевоенной французской литературы»[351].
Как вообще можно подобные выводы делать, когда война всех разбросала, а кого и уничтожила?! Никак не вмещается русский эмигрантский писатель во французскую «рамку», и не потому, что она плоха, а потому что был другим и остался другим.
Больше теоретического опыта из русской младоэмигрантской литературы можно извлечь, если подходить к ней, понимая всю уникальность ее неискоренимого внедомного, детерриториального положения. Русские, в отличие от коренных французских писателей, всегда продолжали оставаться в зазоре и на сквозняке различных культурных тенденций. Они выпали из своей национальной «ячейки», но не прикрепились к другим, в том числе и многие из тех, что перешли на другой язык. Трещина раскалывает сознание Набокова до конца дней его. Эти люди, лишившиеся своего пространства, люди цивилизационного пограничья, оказались обреченными на скитальчество, на жизнь в промежутке, в гостинице, на постоялом дворе (как и прожил всю жизнь Набоков), всегда быть везде и нигде, отчего в творчестве получалось нечто совсем неожиданное.
И вот самым странным образом в 1930-е годы в Западной Европе, когда модернизм в классическом виде еще в самом расцвете, в русской эмигрантской литературной среде намечается префигу рация событий, которые займут арену мировой культуры гораздо позже во второй половине XX в. На мой взгляд, Набоков предвосхищает ситуацию постмодернистскую, так, как она может развернуться у писателя «мейнстрима», а Газданов – другую ситуацию, ту, что проявилась в творческих исканиях так называемых постколониальных, а можно сказать, и постимперских, писателей с типичными для этого ряда писателей уже упоминавшимися концептами промежутка, безместности, внедомности, детерриториальности, надтерриториальность, нахождения в зазоре, в лиминальном положении («ни там, ни сям» и т. д.). И оба они, Набоков и Газданов, до времени вписываются в еще одно, возникшее уже на наших глазах в процессе глобализации, явление транснациональной, или еще по-иному, – «гибридной» литературы как результата межкультурных взаимодействий. Этой ситуации, если использовать современную западную терминологию, соответствуют такие творческие типы, как «международные писатели», «всемирный человек», «новый космополит». В каждой из этих оценок есть своя доля правды для характеристики и Газданова, и Набокова, писателей, которые уже тогда вписываются в культурную парадигму эпохи глобализации, оформившуюся к концу XX – началу XXI в. В самом деле, разве далек Газданов от «постнациональных» писателей? Ведь он не думал о «русской идее», не рассуждал о судьбах России, был вписан в иное, «разнородное» культурное поле и писал отличную прозу на русском языке.
Однажды я увидел интересную фотографию: в Нью-Йорке сидят рядом два нобелевских лауреата – Иосиф Бродский, внедомный поэт из Петербурга (тогда Ленинграда), не советский диссидент, а дальний наследник первой русской эмиграции, и англоязычный Дерек Уолкотт, поэт, негр, родом с антильского острова Сент-Люсия. Что могло объединить Уолкотта и Бродского, ставших друзьями, как не внедомность? И рядом с этими совершенно разными писателями – И. Бродским, поэтом из зоны «вечной мерзлоты», писавшим так, будто заколачивал гвозди в крышку гроба русской классики (цитирую по памяти Ольгу Седакову[352]), и Д. Уолкоттом, воспевшим мир Антил, мог бы сидеть и Гайто Газданов. Все они – писатели постимперской эпохи, писатели без места, писатели всего мира.
Русская и латиноамериканская литературы: два пути в постсовременность
В рамках ставшего уже привычным для отечественной культурологии сопоставления Латинской Америки и России как пограничных культурно-цивилизационных образований I возможно и сопоставление двух литератур. Обе культуры литературоцентричны, что означает особенно важную роль литературы в формировании целостной картины мира, культурно– художественнного кода, системы ценностей, идентичности двух миров. Однако при этом особенно важна методология различительного сопоставления, позволяющего обнаружить и реальные черты сходства, и пределы сопоставимости.
Различия двух литератур обусловлены рядом факторов коренного значения: Хронологическая асимметрия. Период максимального подъема креативности русской литературы приходится на XIX – начало XX в., латиноамериканской – на вторую половину XX в. Соответственно различен «суммарный» опыт, накопленный каждой из литератур до периодов их максимальной активности.
Генезис русской литературы приходится на XI в. Своими корнями она связана с мощно развитой фольклорно-эпической традицией и с византийским христианством – к ним восходит базовый код, система художественных стереотипов, используемых письменной словесностью; затем возникают средневековая и не вызревшие окончательно предренессансная и предбарочная системы. Хотя в новой русской литературе конца XVIII–XIX в. ранний пласт приобрел значение исторического субстрата, тем не менее он выполнял опорную роль и активно влиял на эстетику, систему ценностей русской классики. Переосмысливая опыт западноевропейской литературы, она ориентировалась на гуманистические идеалы, как христианские, так и секулярные, приобретавшие в русском культурно-художественном сознании либо религиозную, либо утопическую ориентацию на абсолютизированный идеал общественной общинно-коллективистской и индивидуальной гармонии, как в национальном, так и в универсальном планах – в разных версиях от Пушкина, Гоголя, Лермонтова до Достоевского, Толстого, крупных символистов (А. Блок, А. Белый) и авангардистов (В. Маяковский, В. Хлебников). Эта схема действует в инвертированном религиозно-мифологизированном варианте и в советской литературе на разных ее этапах.
Формирование латиноамериканской литературы приходится на более поздний период и происходит в совершенно иных условиях. Ее генезис начинается с рубежа Нового времени, т. е. на пятьсот лет позже. Отсутствие опоры на фольклорную традицию (результат отрыва от иберийских корней) перекладывает на письменную словесность важнейшую функцию создания кода новой традиции, целостной эпической картины мира, культурно-художественных стереотипов, системы ценностей, выражающих сознание и «бессознательное» возникающего нового мира. Эпические хроники открытия и завоевания Нового Света имеют двойную принадлежность, являясь памятниками испанской литературы и первичным пластом новой традиции, что осознается только в XX в. Активное формирование начинается около середины XIX в.