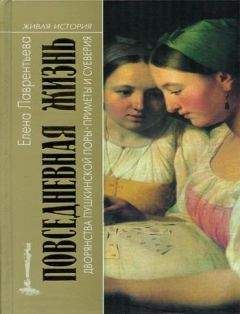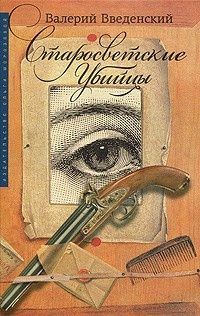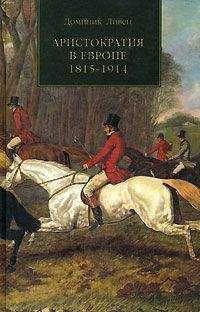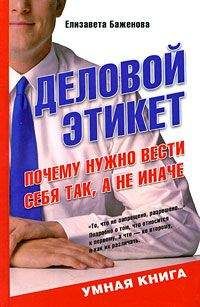Вспоминая веселую жизнь в имении В. А. Недоброво, А. П. Беляев пишет: «Василий Александрович очень любил, когда вторая дочь Надежда Васильевна плясала русскую. Для этого она надевала богатый сарафан, повойник и восхищала всех гостей своей чудной грацией»{67}. Этим мастерством наделил Л. Н. Толстой и свою любимую героиню Наташу Ростову.
К сольным танцам принадлежал и танец с шалью, па-де-шаль.
«Однажды на балу у Орлова попросили одну из московских красавиц, жену его незаконного сына, протанцевать "pas de chele", — вспоминает Е. И. Раевская. — Она согласилась и, став посреди залы, будто невзначай, выронила гребень, удерживающий ее волосы. Роскошные, как смоль, черные волосы рассыпались по плечам и скрыли стан ее почти до колен. Все присутствующие вскрикнули от восторга и умоляли ее исполнить танец с распущенными волосами. Она только того и хотела; исполнила танец при общих рукоплесканиях»{68}.
Появлению этого танца способствовало увлечение французского общества античной культурой. «Па-де-шаль — соло, танцуется с легким газовым шарфом в руках: танцующая то обмотывается им, то распускает его». Особое внимание обращалось на плавность и грациозность движения рук.
Иногда на балу рождался какой-нибудь новый танец. «На последнем бале у Ф. Голицына было 18 дам и более 40 танцоров, — сообщает москвичка М. А. Волкова своей подруге В. И. Ланской 1 февраля 1815 года. — Так как этот толстый князь Федор из всего умеет извлечь пользу, видя, что многие не танцуют, он выдумал кадриль, в которой у каждой дамы было по два кавалера, нас это очень забавляло; но беда была в том, что все путались, не зная, в какую сторону повернуться и кому прежде кланяться»{69}.
Наиболее полный список популярных в то время танцев встречаем в воспоминаниях М. Дмитриева: «А тогда танцев было множество: экосезы и англезы со множеством фигур, круглый польский, polonaise sautante[80], вальс, тампет, матрадура, мазурки, и все это кончалось бесконечным котильоном, а после ужина поднимались и старики с молодыми и дурачились в грос-фазере[81]. Бывало, так завеселишься, что ног под собой не слышишь; эти балы кончались… часа в четыре за полночь»{70}.
«Если где-либо собирались на вечер или на бал, то каждый имел право подходить к любой даме, не ожидая, чтоб его прежде представили: за благонадежность и приличность господина ручалось уже то, что он находился в одном доме с дамою; иначе его бы не приняли; следовательно, дама не имела никакого основания опасаться, что подходящий к ней кавалер может ее компрометировать»{71}.
«Первый мой выезд был на бал к Хвостовым, — вспоминает Е. А. Хвостова. — …Войдя в ярко освещенную залу, у меня потемнело в глазах, зазвенело в ушах; я вся дрожала… Но боязнь эта скоро исчезла, дамы и девушки заговорили со мной первые (тогда еще не существовала на свете претензия говорить и танцевать только с представленным лицом)…»{72}
Многочисленные руководства по этикету содержали правила поведения барышни на первом балу: «Если у девушки есть отец, то он под руку вводит ее в залу, представляет своим старым друзьям, и ему же представляются кавалеры, желающие танцевать с его дочерью»{73}.
Считалось неприличным обещать один танец двум кавалерам. «Этого должно всячески избегать, так как подобные случаи носят отпечаток кокетства…»{74}
Дама, чтобы не причинить одному из кавалеров неудовольствие, должна была «прибегнуть к маленькому притворству и, отговорясь усталостью», пропустить злополучный танец.
Дамы и барышни «имели маленькие книжки в оправе слоновой кости, в которых записывалось, на каком балу, с кем и что танцуешь». [см.илл.] Нарушить правило допускалось только в том случае, если на танец приглашал император.
«Обманутый» кавалер не должен откровенно выражать своего неудовольствия, подобно штабс-капитану Шеншину, о котором рассказывает в своих воспоминаниях М. М. Петров. «Молоденькая вдовушка», дав обещание танцевать с ним будущий танец, пошла с другим. «Шеншина это своевольство взорвало, и он наговорил ей упреков с три пропасти поносительных — так что она принуждена была скрыться, удаляясь с балу»{75}.
Девушки выезжали на бал только в сопровождении матери или какой-нибудь почтенной дамы, родственницы или близкой знакомой. Персидский посол, остановившийся в Москве проездом в Петербург, в 1814 году, на балу у графини Орловой был удивлен, «зачем на этом балу так много старых женщин, и когда ему объяснили, что это матери и тетки присутствующих девиц, которые не могут выезжать одни, он резонно заметил: разве у них нет отцов и дядей?..»{76}.
«Присутствие чепцов, как известно, необходимо для сохранения спокойствия в непокорных головках: не будь их, кадрили тотчас превратились бы в шумное сборище новгородского веча; юные красавицы, под предводительством ораторов с усами и без оных, заговорили бы против законов расчетливых маменек: тогда прощай выгодные замужества!»{77}.
«Меня уверяли, — замечает С. П. Жихарев, — что если девушка пропускает танцы или на какой-нибудь не ангажирована, то это непременно ведет к каким-то заключениям. Правда ли это? Уж не оттого ли иные mamans беспрестанно ходили по кавалерам, особенно приезжим офицерам, и приглашали их танцевать с дочерьми: "Батюшка, с моею-то потанцуй"»{78}.
Другие mamans облекали эту просьбу в более светскую, изысканную форму:
« — Вы не хотите сделать нам удовольствия потанцовать у нас? Вы танцуете так прелестно!..
— Сударыня! Я только ожидал вашего приказания.
— Так не угодно ли с моею дочерью?..
— Как не угодно ли!.. Напротив, я должен просить вас на коленях позволить мне иметь эту честь…»{79}
Девушке не полагалось более одного раза танцевать с молодым человеком, если он не являлся ее женихом.
А. П. Керн вспоминает: «Батюшка продолжал быть со мною строг, и я девушкой так же его боялась, как и в детстве. Если мне случалось танцевать с кем-нибудь два раза, то он жестоко бранил маменьку, зачем она допускала это, и мне было горько, и я плакала»{80}.
А вот еще одно интересное свидетельство современника: «Тогда была в Симбирске одна барышня М. Д., которая более прочих мне нравилась и действительно была прехорошенькая и премилая особа; вследствие чего, начиная с первого вечера и до последнего, все котильоны и мазурки мы с ней неразлучно танцевали; это так уже вошло в обыкновение, что на эти танцы ее никто уже не ангажировал. В столице это было бы немыслимо, но в провинции тогда нравы еще были настолько патриархальны и наивны, что оно никому не казалось странным и неприличным»{81}.
Успех девушки на балу зависел от ее умения поддерживать непринужденный, легкий «бальный разговор». «Мы сказали, что на бале люди отличаются от людей пустословием. Это называется — разговор. Нужен разговор особенный, исключительно бальный, отличающийся от других разговоров как щебетание ласточки от песней жаворонка. Его можно взять напрокат у приятелей, то есть должно научиться ему в свете…»{82} «Разговор перелетал то мотыльком, то пчелкой с цветка к цветку, от предмета к предмету»{83}.
«Другой отец, также москвич, жаловался на необходимость ехать на год за границу. "Да зачем же вы едете?" — спрашивали его. — "Нельзя, для дочери!" — "Разве она нездорова?" — "Нет, благодаря Бога, здорова; но видите ли, теперь ввелись на балах долгие танцы, например, котильон, который продолжается час или два. Надобно, чтобы молодая девица запаслась предметами для разговора с кавалером своим. Вот и хочу показать дочери Европу. Не все же болтать о Тверском бульваре и Кузнецком мосте"»{84}.
В сатирическом рассказе П. А. Муханова «Сборы на бал», опубликованном в 1825 году, мать поучает великовозрастную дочь, как следует вести бальный разговор:
«Ты знаешь, что я отдала о тебе записку Панкратьевне, доброй этой торговке, у которой я купила жемчуг; она показывала ее майору, который приехал с решительным желанием — жениться, а я тебе решительно объявляю, чтобы ты непременно ему понравилась… Если он тебя позовет на польский, то встань с приятностью, дай руку с ловкостью, взгляни приветливо, говори с ним много, особенно о сельской жизни, о семейственном счастии, о скуке большого света, но все это умненько, так, чтоб он не мог заключить, что свет тебе знаком уже 12 лет. Скажи ему, что твой отец тоже служил в военной службе и страх любит военных, что я любезная и гостеприимная женщина и всегда по вечерам бываю дома. Если же к тебе подойдет Миловзор, петербургский этот красавец, тоже уведомленный о тебе с весьма хорошей стороны, то заговори ему об опере, о балах, о гуляньях, танцах; скажи ему, что ты страх желала бы жить в Петербурге; скажи ему, что ты любишь бульвары, тротуары, что ты рада быть у двора, познакомиться с иностранными министрами; поговори ему о литературе, о модах, книгах; дай ему почувствовать, что на доходы твоей степной деревни ты бы могла жить открыто; скажи ему, что тебе надоела Москва, где столько причуд и причудников…»{85}