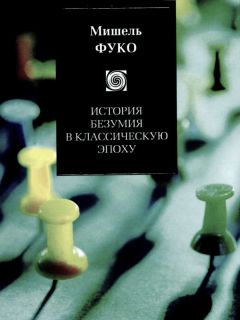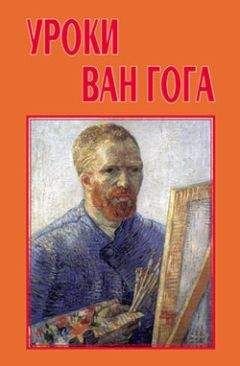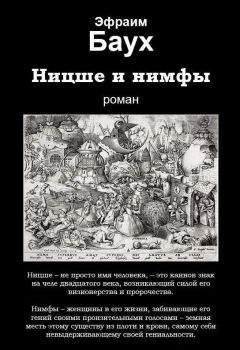Спустя примерно семьдесят лет понятие животных духов утратило свое научное значение. Отныне тайны болезней выпытывают у жидких и твердых элементов тела. Во “Всеобщем медицинском словаре”, выпущенном Джеймсом в Англии, в статье “Мания” предлагается сравнительная этиология этой болезни и меланхолии: “Не подлежит сомнению, что мозг есть средоточие всех болезней подобного рода… Именно его сделал Творец — хоть и непостижимым для нас образом — вместилищем души, ума, гения, воображения, памяти и всех ощущений… Все эти благородные функции претерпят изменения, нарушения, будут ослаблены или полностью уничтожены, если кровь и гуморы, испорченные качественно и количественно, будут переносимы к мозгу не единообразно и умеренно, если они станут циркулировать в нем стремительно и бурно либо же будут двигаться медленно, затрудненно и вяло”37. Именно этот вялый ток крови, закупоренные сосуды, тяжелая, густая кровь, которую сердце с трудом разгоняет по всему организму и которой трудно проникнуть в тончайшие артерии мозга, где циркуляция ее для неослабного движения мысли должна быть очень быстрой, — все это нагромождение досадных помех и служит объяснением меланхолии. Весомость, тяжесть, закупорка — вот те первичные качества, которые лежат в основе анализа. В процессе объяснения свойства, ощутимые в манере держаться, в поведении и речах больного, переносятся на его организм. Мысль движется от перцепции качества к предполагаемому объяснению. Однако главенствующую роль продолжает играть именно восприятие, неизменно одерживающее верх над логикой и связностью теории. Лорри прибегает к обеим главным формам медицинского объяснения — через твердые элементы и через жидкие элементы; он ставит их в один ряд и в конце концов соединяет, различая тем самым два вида меланхолии. Меланхолия, источник которой лежит в тканях, — это меланхолия нервная: когда какое-то особенно сильное ощущение колеблет принимающие его фибры, то, как следствие, возрастает напряженность и других фибр, которые становятся одновременно и более твердыми, и способными к более мощной вибрации. Но стоит ощущению сделаться еще сильнее — и напряжение в других фибрах настолько возрастет, что они станут неспособны к вибрации; они достигнут такой жесткости, что ток крови остановится, а животные духи застынут в неподвижности. Возникает меланхолия. При другой, “жидкостной” форме болезни гуморы пропитываются черной желчью; они становятся гуще; кровь, перегруженная этими гуморами, тяжелеет и, застаиваясь в мозговых оболочках, сдавливает основные органы нервной системы. Снова все возвращается к жесткости фибры, но на сей раз она — всего лишь следствие одного из гуморальных феноменов. Лорри различает две разновидности меланхолии; однако на деле речь идет об одной и той же совокупности качеств, обусловливающей реальную целостность меланхолии, последовательно включаемую у него в две экспликативные системы. Разделилось пополам лишь здание возведенной теории. Качественная основа опыта остается прежней.
Меланхолия — это символическое единство, складывающееся из вялости флюидов, затемненности животных духов, отбрасывающих на образы вещей сумеречную тень, вязкости крови, с трудом проталкивающейся по сосудам, сгущения паров, становящихся черноватыми, тлетворными и едкими, заторможенности функций внутренних органов, словно обмазанных клеем; единство это не столько концептуальное, или теоретическое, сколько чувственно воспринимаемое, и именно оно придает меланхолии ее своеобразие.
Не пристальное наблюдение, но прежде всего эта работа символов приводит в конечном итоге к перестройке всей совокупности признаков и проявлений меланхолии. Тема частичного бреда как основного симптома меланхолии встречается все реже и реже, уступая место качественным данным, таким, как грусть, горечь, стремление к одиночеству, неподвижность. В конце XVIII в. к меланхолии легко причисляются любые виды безумия, не сопровождающиеся бредом, зато характеризующиеся апатией, чувством безнадежности, каким-то угрюмым ступором38. И уже в “Словаре” Джеймса упоминается апоплексическая меланхолия, при которой бредовая идея отсутствует, но больные “вовсе не желают ходить, если только не понуждаемы к тому друзьями либо теми, кто за ними ухаживает; они отнюдь не избегают людей; однако не придают, по-видимому, никакого значения тому, что им говорят, и ни на какие вопросы не отвечают”39. В данном случае диагноз “меланхолия” обусловлен прежде всего преимущественной неподвижностью и молчанием больного; но у некоторых людей наблюдается только подавленность, вялость и тяга к уединению; даже если они находятся в возбужденном состоянии, предполагать у них манию было бы преждевременно и ошибочно; безусловно, такие больные поражены меланхолией, ибо “они избегают общества людей, любят уединенные места и бродят без цели, сами не ведая, куда идут; цвет лица у них желтоватый, язык сухой, как у человека, страдающего сильной жаждой, глаза сухие, запавшие, никогда не увлажняемые слезами; все тело их сухое и поджарое, а лицо мрачно и отмечено ужасом и печалью”40.
* * *
Все исследования мании, а также их эволюция в классическую эпоху подчиняются единому логическому принципу.
Виллизий последовательно противопоставляет манию и меланхолию. Ум меланхолика целиком погружен в размышление, так что воображение его пребывает в отдохновении и праздности; напротив, у маньяка фантазия и воображение трудятся непрерывно, благодаря стремительному наплыву мыслей. Если ум меланхолика сосредоточен на одном-единственном предмете, придавая ему — но только ему — непомерно большое значение, то мания искажает любые концепты и понятия; либо они перестают соответствовать друг другу, либо искажается их репрезентативное значение; в любом случае нарушается важнейшее соотношение истины и мысли во всей ее совокупности. Наконец, меланхолия всегда сопровождается грустью и страхом; маньяка же, напротив, отличает дерзость и буйство. И при мании и при меланхолии причиной болезни является движение животных духов. Однако при мании это движение совершенно особенное: непрерывное, бурное, всегда способное отворять в материи мозга все новые и новые поры и служащее как бы материальным основанием бессвязных мыслей, порывистых жестов, беспрерывного словоизвержения — в чем и выражается мания. Можно предположить, что подобная пагубная подвижность есть подвижность адской воды, состоящей из сернистой жидкости, — всех этих aquae stygiae, ex nitro, vitriolo, anti-monio, arsenico, et simillbus exstillatae [67]; частицы этих вод находятся в постоянном движении; они способны проникать в любую материю, создавая в ней новые поры и каналы; и они обладают достаточной силой, чтобы распространяться на большое расстояние, — точно так же, как маниакальные духи, способные привести в возбуждение все части тела. Тайна движений адской воды сосредоточивает в себе все образы, в которых мания обретает свою конкретную форму. Это некая сила, неотделимая от мании, — ее химический миф и, так сказать, истина ее динамики.
На протяжении XVIII в. образ животных духов, движущихся по нервным каналам, образ механистический и метафизический, нередко вытеснялся другим, более строгим с физической точки зрения, но при этом несущим еще большую символическую нагрузку, — образом натяжения, напряжения нервов, сосудов и всей системы органических фибр. В этом смысле мания есть натяжение фибр, достигшее крайней степени, а маньяк представляет собой своеобразный инструмент, струны которого натянуты слишком сильно и потому начинают вибрировать даже при самом отдаленном и самом легком раздражении. Сущность маниакального бреда состоит в непрерывно вибрирующей чувствительности. Через этот образ отличия мании от меланхолии, уточняясь, выстраиваются в строгую антитезу: меланхолик лишился способности звучать в унисон с внешним миром, потому что его фибры расслаблены или же неподвижны из-за чрезмерного натяжения (механизм натяжения, как мы видим, с одинаковым успехом объясняет и неподвижность, присущую меланхолии, и маниакальное возбуждение); резонируют у меланхолика всего лишь несколько фибр — те самые, что соответствуют его бредовому пунктику. Маньяк, напротив, вибрирует при любом воздействии, его бред всеобъемлющ; внешние раздражения не гаснут у него, как у меланхолика, в толще неподвижности, но, воспроизведенные его организмом, умножаются, как если бы маньяки накапливали благодаря натяжению своих фибр некую дополнительную энергию. Впрочем, именно поэтому они, в свою очередь, нечувствительны к внешним воздействиям, но не той сонной нечувствительностью, какая отличает меланхолика, а нечувствительностью, исполненной напряжения и внутренних вибраций; судя по всему, как раз по этой причине “они не боятся ни холода, ни жара, рвут в клочья свою одежду и в разгар зимы ложатся спать нагишом и не мерзнут”. По той же причине реальный мир для них не существует, хоть и доставляет им постоянные источники раздражения; они подменяют его ирреальным, химерическим миром собственного бреда: “Важнейшие симптомы мании происходят от того, что предметы представляются больным не такими, каковы они в действительности”41. Бред у маньяков обусловлен не каким-либо отдельным изъяном в способности суждения, но порочностью самой системы передачи чувственных впечатлений в мозг, своего рода информационной помехой. Древнее представление об истине как о “соответствии мысли о вещах самим вещам”, будучи перенесено в психологию безумия, превращается в метафору резонанса, так сказать, музыкального согласия фибры с теми ощущениями, которые заставляют ее вибрировать.