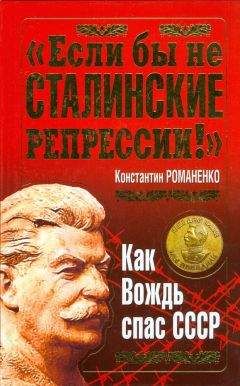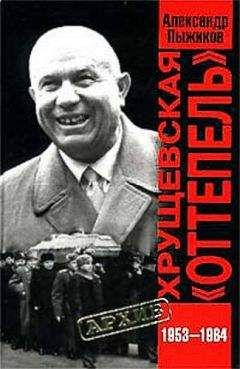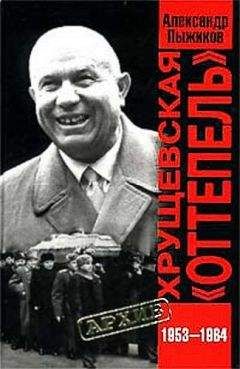Жена жила на улице Мархлевского, которая раньше называлась Милютинским переулком. Это был двор Польского костела. Окружающие строения сплошь занимали польские товарищи, которые там жили и работали. Занимали мы втроем девятиметровую комнату. С нами жила еще и собака Джек. Это продолжалось до тех пор, пока я не вступил в кооператив от Театра Маяковского. Совместно с Театром киноактера строился дом на улице Черняховского. Но нужно было платить вступительные взносы, членские взносы... А где взять деньги? В это время я уже начал сниматься, и мне предложили перейти в штат Студии Горького, что я и сделал. И считаю, что правильно. А вот совсем недавно, уже после смерти жены, я переехал в Дом ветеранов кино.
– Ваша жена принимала участие в вашем творчестве?
– Нет, никакого. Я даже больше скажу. Она почти что никогда не давала оценки тому, что я делал на сцене или на экране. Помню такой момент, когда где-то шел «Юбилей» Чехова, и Хирина играл Василий Топорков. А в Театре Маяковского я играл Хирина. Так когда она посмотрела, то сказала: «Ну и что? Толя так же играл». Это перекликается с анекдотом, когда в Одессе тонул мальчик, кто-то бросился его спасать, вытащили, все были рады, а особенно рада была мама, которая спросила: «А вы кепочку там не нашли?».
Она совершенно не годящаяся для искусства женщина. Она даже никогда не улыбалась. Но была порядочным человеком, честным. К ней всегда хорошо относилось начальство, с которым она работала, так как работником она была очень хорошим.
Я вообще никогда никого не спрашивал о своем творчестве, а мне не говорили. Поэтому я не знаю, как к моим работам относились родственники, друзья.
– Вы ведете своеобразный образ жизни. И коллеги говорят о вас, как о несколько замкнутом, скрытном человеке, не входившем ни в какие компании, что никогда вы не были замечены ни в каких скандалах, а спорите только с режиссерами. Это так?
– Да и с режиссерами я не очень-то спорил. У них своя работа, у меня своя. Задача в том, чтобы исполнить роль так, как ты чувствуешь. И все. А компаний я особо никаких и не помню. Мы жили в трудное время и в театральном, и в государственном смысле. Всегда было нелегко материально, сложно с питанием. Мы увлеченно занимались профессией.
– А как так получилось, что вы не имеете никакого звания?
– Наверное, в силу моего характера. Я никогда не предпринимал для этого никаких шагов, действий, а само ничего не приходит. Меня это не интересовало, не волновало, не беспокоило. Не говоря о том, что когда начались все эти награждения, раздача званий, я встретил известного деятеля Художественного театра Владимира Александровича Попова. Он передал мне слова Станиславского, его реакцию на все это: «Ну, искусство кончилось».
Лидия Королева
Просто Кралевна
Кого-то, может быть, это удивит, но речь пойдет о Лидии Королевой.
«Кто такая Королева?! Не знаю я никакой Королевой! Не надо мне никакую Королеву!» – кричал великий киносказочник Роу, когда впервые услышал эту фамилию. Но познакомившись и поработав с этой актрисой, он влюбился в нее на всю жизнь. Да, Лидия Королева никогда не была ни примой, ни премьершей, ни тем более «звездой». Она труженик, рядовой труженик экрана и сцены.
Но и не это привлекает в Лидии Георгиевне. Она удивительный человек. Мудрый, беззлобный, изысканный – при грубоватости голоса и где-то даже внешности. Она никогда не занималась своей карьерой. Играла, что предлагали, не напрашивалась, не выбивала званий и категорий, ни кичилась любовью к ней самого Эйзенштейна, снималась, озвучивала, писала эстрадные номера себе и коллегам.
Впрочем, обо всем по порядку.
* * *
– Меня с детства влекла сцена, – вспоминает Лидия Королева. – Папа приносил из детских магазинов красивые раскладные театрики, и я с удовольствием разыгрывала кукольные представления. Папа был очень одаренным человеком. До 1922 года он работал у купцов Рябушинских в акционерном автомобильном обществе. Старший из Рябушинских папу любил и все время говорил ему: «Егор, хочешь театр? Я дам тебе помещение». И где-то в 19—20-м годах на Народной улице, на Таганке, у Москвы-реки, дал ему подвал. Там папа организовал самодеятельный театр. Сам ставил, пел и декламировал. После 23-го года, когда Рябушинские уехали в Париж, работал в организации «Экспортхлеб» главным бухгалтером. Но театр не бросал.
С мамой они разошлись, но нас, троих детей, папа не забывал. По воскресеньям он брал нас к себе, и мы целый день проводили в Третьяковской галерее. Брат мой, Геннадий Георгиевич Королев, стал народным художником, профессором. За три месяца до смерти ему присвоили академика. Он вел кафедру живописи в Институте имени Сурикова.
По настоянию отца я проучилась 10 лет, за что бесконечно ему благодарна. Наш класс был очень хорошим. До сих пор дружу со школьной приятельницей Марией Павловной Ласкавой, которая сейчас доктор философских наук. Мы любили литературу, ее нам преподавал в единственном классе в Москве профессор Зерчанинов. Так что в этом отношении база у нас была потрясающая. Но самое яркое впечатление школьных лет связано с выпускным вечером: он прошел в Колонном зале, а потом мы вышли и дали ход на Красную площадь. Мы стали первыми выпускниками школы, вышедшими на главную площадь страны.
Моя старшая сестра была более образована технически. Она мне разъясняла теоремы, подсказывала, и я всегда ее слушалась. Поэтому когда она сказала мне: «Подавай в МГУ на математический» – я подала. Решила все задания, проучилась первый год. Но только я перешла на второй курс, в ноябре 1938 года был объявил набор молодежи во ВГИК.
* * *
Надо сказать, что учась в МГУ, я посещала какие-то самодеятельные курсы, и нас периодически смотрели представители министерства культуры, присутствовали на выступлениях, спектаклях. И однажды ко мне подошел пожилой, как мне показалось, человек. (Как потом выяснилось, это был очень известный и влиятельный человек по фамилии Перес, большой друг знаменитого литературоведа Фортунатова, причем было ему тогда всего 42 года.) Он меня отвел в сторону и спросил: «Вы серьезно этим делом занимаетесь?» Я ответила: «Да. Жить без этого не могу». Тогда он говорит: «Я вам сообщаю по секрету: в ноябре-месяце во ВГИКе товарищ Эйзенштейн объявит набор молодежи на режиссерский факультет по распоряжению правительства и лично товарища Жданова. Ему сказали, что хватит заниматься со стариками, давайте рождать свою, молодую советскую режиссуру». Дело в том, что Сергей Михайлович в те годы читал лекции и проводил семинары с уже известными режиссерами, такими как Разумный, Ромм, Пудовкин, Райзман, Довженко, Донской, Савченко, Калатозов, Роу, а теперь вот было решено набрать молодежь. И я пошла.
Конкурс был очень сложный, тяжелый, и я бы сказала, что по сравнению с теперешним приемом во ВГИК он был академическим. Во-первых, экзамены по специальности. Давалось два направления: положим, отрывки из романа «Мать» Горького и что-нибудь из Маяковского. И надо было написать и раскадровать, как мы видим эти отрывки на экране. Если мы сдавали экзамен по специальности, нас направляли дальше по кабинетам сдавать все остальное. Причем, имея на руках аттестат за десятилетку с оценками по 10-12 предметам, мы должны были те же предметы сдать и в институте. Я засыпалась на биологии, и, не узнав оценки по специальности, перестала сдавать дальше. Через несколько дней я получила повестку – явиться в деканат ВГИКа. Приехала. За столом – декан Игнат Иванович Назаров: «Королева? Куда же вы пропали?» – «Я не пропала, – отвечаю. – Я засыпалась на биологии. Мне поставили двойку». – «Кто вам сказал? Нет, вам поставили тройку». Он тихонько подвел меня к доске приказов и показал глазами на отметки по специальности. И я прочла: оценка по режиссуре – 5, по актерскому мастерству – 5. «А по биологии, запомни, у тебя тройка. Так сказал Сергей Михайлович».
Требования у Эйзенштейна к абитуриентам были огромными. К нему нельзя было прийти на экзамены, не зная живописи, музыки классической, легкой, кинематографической, мы должны были знать все. Растерянные глаза, устремленные на С. М., сразу снижали отметку. Насколько мне не изменяет память, в приемную комиссию также входили Кулешов, Хохлова, Телешева – супруга Эйзенштейна, Новосельцев, Галаджев, Оболенский, и каждый имел право задать нам вопрос на любую тему. Искусство, мода, спорт – мы должны были быть готовы ко всему. Этой же комиссии мы сдавали экзамен по актерскому мастерству – этюды, отрывок, сценки.
Я пришла в спортивных байковых штанах, с чемоданчиком, стриженая под мальчишку. Встала у рояля, положив на него руку, чем вызвала недоуменный взгляд у пианистки. «Я буду читать монолог Ларисы из „Бесприданницы!“ – заявила я, убив этим всю комиссию. А голос у меня был такой же, как сейчас. Набрала воздух, обвела всех туманным взглядом и начала: „Я давеча за Волгу смотрела. Как там хорошо...“ Телешева по графинчику постучала: „Спасибо, деточка!“ И вдруг Эйзенштейн, чьих глаз из подо лба никогда не было видно, говорит: „Королева, вы с нами шутить будете?“ У меня – слезы градом. „Деточка, давайте что-нибудь комедийное!“ Я еще больше разрыдалась – оскорбили! Я же героиня! А они из меня клоуна делают. Но собралась: „У меня Чехов есть. Рассказ „Неудача“. Прочесть?“ Одобрили: „Вот это давайте“. Дослушали до конца. А потом дали задание на этюд: разговор по телефону с больным отцом, затем с начальником и с любимым человеком.