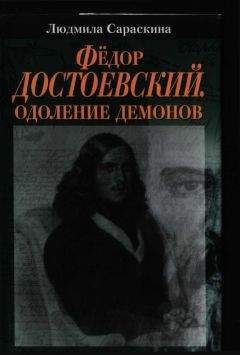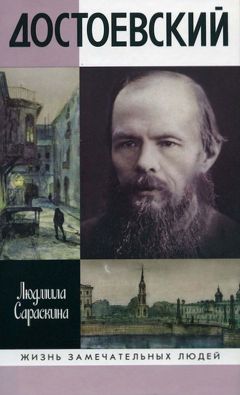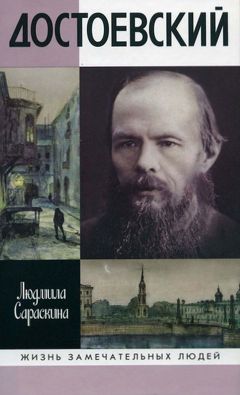Позже интерпретаторы романа напишут о нем много эффектных и энергичных фраз: грядущий Антихрист, Князь мира сего, ложь и отец лжи, самозванец, живой мертвец. Но тогда, в апреле 1872 года, добиваясь от редакции положительного цензурного решения, Достоевский был весьма далек от таких формул. У него в главе, еще до чтения «листков», Ставрогин говорил Тихону: «Знаете, я вас очень люблю». «И я вас», — отвечал ему Тихон и шептал, «чуть — чуть до — тронувшись пальцем до его локтя и как бы сам робея: „Не сердись…”». А после «листков» они прощали друг друга «за вольная и невольная» — по монастырской формуле, как не совсем точно выразился Николай Всеволодович.
Горячо убеждая Любимова в своем намерении найти компромисс, Достоевский писал: «Клянусь Вам, я не мог не оставить сущности дела, это целый социальный тип (в моем убеждении), наш тип, русский, человека праздного, не по желанию быть праздным, а потерявшего связи со всем родным и, главное, веру, развратного из тоски, но совестливого и употребляющего страдальческие судорожные усилия, чтоб обновиться и вновь начать верить. Рядом с нигилистами это явление серьезное. Клянусь, что оно существует в действительности. Это человек, не верующий вере наших верующих и требующий веры полной, совершенной, иначе…»
Рисовалась личность мощная и глубокая, масштабная и максималистски честная, нравственные преступления которой имеют, помимо личных, и серьезные социальные причины. Ханжей и святош из «Русского вестника» Достоевский подводил к мысли: совестливый герой, употребляющий страдальческие, судорожные усилия в поисках веры и обновления, такую исповедь, как в главе, и должен был написать судорожно, ибо все его преступление есть не что иное, как судороги и конвульсии праздного, потерявшегося человека. Достоевский, который уже казнил Ставрогина, сделав его насильником и растлителем малолетней Матреши, теперь выступал как его общественный защитник. Он не оправдывал поступков героя, чья великая праздная сила ушла «нарочито в мерзость», но как бы сопереживал его несчастью и жалел его. Он проводил разницу между брутальными нигилистами и героем «листков» — в пользу героя. Куда‑то исчезал обворожительный демон — Мефистофель, исчадие ада, и являлся человек — страдающий и гибнущий. На мгновение мелькнула тень прототипа — другого страдальца, за которым, надо полагать, ставрогинских мерзостей не числилось, хотя он тоже ни во что не верил; и Достоевский клялся, что как явление человек, «требующий веры полной, совершенной, иначе…», существует в действительности.
Злоключения с отвергнутой главой дали творческой истории романа неожиданный поворот: если два года назад автор, во имя великой художественной идеи, демонизировал героя, то теперь, ради спасения всей работы, он должен был очеловечить его. Разворачивалась многомесячная драма цензурных смягчений.
III
Документ этот, по — моему, — дело болезненное, дело беса, овладевшего этим господином. Похоже на то, когда страдающий острою болью мечется в постели, желая найти положение, чтобы хотя на миг облегчить себя. Даже и не облегчить, а лишь бы только заменить, хотя на минуту, прежнее страдание другим. И тут уже, разумеется, не до красивости или разумности положения» — этой вставкой — объяснением от Хроникера начинался длинный ряд смысловых, стилистических и цензурных поправок. Главным мотивом документа выставлялся факт страдания: корчился от острой боли и метался не «отец лжи», не «живой мертвец», не самозванец, «язвительный, как Мефистофель», а человек, больной и несчастный. Неотразимый аргумент отца Тихона о «некрасивости» исповеди упреждался и даже как бы извинялся: «Тут уже не до красивости…» Редакторы, цензоры, критики и рецензенты — все, кто противодействовал появлению главы в «Русском вестнике», — должны были внять убедительной силе пространного предисловия, поставленного теперь перед документом «От Ставрогина»: «Основная мысль документа — страшная, непритворная потребность кары, потребность креста, всенародной казни». А потребность креста в человеке, не верующем в крест, не может не вызывать уважения, ибо «составляет идею».
Но превратить грешника в великомученика значило не просто уступить цензуре, а изменить существу замысла; видимо, поэтому в предисловии к документу рядом с первым присутствовал и второй мотив: больной мечется и хватается «за удобный случай к новому буйству»; в самом факте подобного документа, «буйного и азартного», «предчувствуется новый, неожиданный и непочтительный вызов обществу».
Смягчая общее впечатление от «листков» Ставрогина в глазах цензуры, предисловие попыталось дезавуировать саму документальность исповеди и подлинность преступления. Тем малозаметным деталям, позволяющим заподозрить в «листках» первую пробу пера подпольного сочинителя, неожиданно придавались вес и значение — как еще одного возможного мотива их появления. Знаменательно: спасая главу и ее героя, Достоевский вопреки своей прежней писательской практике не уничтожал неопределенность мотивов, а, напротив, добивался ее. «А кто знает, может быть, всё это, то есть эти листки с предназначенною им публикацией, опять‑таки не что иное, как то же самое прикушенное губернаторское ухо в другом только виде? Почему это даже мне теперь приходит в голову, когда уже так много объяснилось, — не могу понять. Я и не привожу доказательств и вовсе не утверждаю, что документ фальшивый, то есть совершенно выдуманный и сочиненный. Вероятнее всего, что правды надо искать где‑нибудь в средине…»
В другом варианте акцент с предисловия переносился на диалог Ставрогина и Тихона до чтения «листков». «А правда ли то, что здесь написано?» — спрашивал Тихон. Улыбаясь ему в ответ «длинной, длинной улыбкой», Ставрогин намекал, что идея весьма оригинальна и даже натуральна, и предлагал Тихону прочесть «листки» «как литературную вещь». Ставрогин- сочинитель брался выручить Ставрогина — злодея: если бы удалось провести мотив «выдуманности» и «сочиненности» документа, выходило бы, что преступления вообще не было и герой оболгал себя ради литературного эпатажа и общественного скандала. Но что же взять с сочинителя — тем более такого, который хочет кары и креста при отсутствии состава преступления?
Все это, однако, были пока слова и слова. А Катков и компания придирались не столько к словам, сколько к сценам. И даже если Николай Всеволодович в сочинительском азарте оговорил себя, оставались слишком откровенные, «скабрезные» (непристойные, грязные, циничные — какие еще из эпитетов этого ряда называл Катков?) следы его разнузданной фантазии.
Прежде всего решительно сокращался список негодяйств Николая Всеволодовича, независимо от того, были ли они им сочинены для пущего скандала или имели место в действительности. Ставрогин более не воровал в номерах, при виде экзекуции Матреши испытывал не «наслаждение», а только «некоторое удовольствие» и полностью лишался «старых воспоминаний» — об отравлениях, оскорблениях, дуэлях и убийствах. Устранялись «нецеломудренные» подробности, слишком «реальные» детали; что же касается сцены растления, из‑за которой не проходила в печать глава, был придуман новый и оригинальный ход: цензором «скабрезной» исповеди назначался… сам Николай Всеволодович.
«Листков всего было пять, один в руках у Тихона, только что им дочитанный и прерывавшийся на полуфразе, а четыре оставались в руках у Ставрогина. На вопросительный взгляд Тихона тот, уже ожидавший, мигом подал ему продолжение.
— Но и тут пропуск? — спросил Тихон, всматриваясь. — Ба! Да это уже третий листок, нужен второй.
— Да, третий, но тот листок… тот второй листок пока под цензурой, — быстро отвечал Ставрогин, неловко усмехаясь… — Вы получите потом, когда… удостоитесь, — прибавил он с неудавшимся фамильярным жестом. Он смеялся, но на него жалко было смотреть.
— Ведь уже теперь что второй номер, что третий, — всё одно, — заметил было Тихон.
— Как всё одно? Почему? — азартно и неожиданно рванулся вперед Ставрогин. — Совсем не одно. А! Вам бы сейчас по — монашески, то есть самую что ни на есть мерзость прежде всего заподозрить. Монах был бы самым лучшим уголовным следователем!»
Тихон, на поведение которого также распространилась авторская цензура, и впрямь заметно посуровел; теперь он разговаривал с собеседником «как человек, не желающий себя сдерживать»; осторожная и деликатная критика «слога» уступала место раздражению, негодованию и страстной непреклонности. Он резко порицал Ставрогина за «бесчувственность и глупость», был строг, нравоучителен и назидателен. В одном из поучений он выговаривал Николаю Всеволодовичу: «Видно, даром иностранцами не делаются. Есть одна казнь, преследующая оторвавшихся от родной земли, — скука и способность к бездельничеству, даже при всем желании дела. Но христианство признает ответственность даже и при всякой среде…» Суровый и непримиримый монах — аскет теснил тонкого ценителя изящной словесности, каким был Тихон в первой редакции главы; в присутствии такого исповедника Николай Всеволодович как‑то сникал и терялся — в одну из таких неверных минут он, «взяв в руки маленькое распятие из слоновой кости, начал вертеть его в пальцах и вдруг сломал пополам».