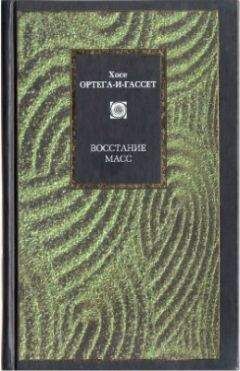Стихи Антонио Мачадо
На поэтическом небосклоне сегодняшней Испании горит созвездие Близнецов — братьев и поэтов Мачадо. Мануэль облюбовал берега Мансанареса. У его музы пышный воротник, пылкое сердце и неунывающий нрав; прогуливаясь, она ловко гасит разлет своих парусящих юбок, пока парапет повторяет созвучия ее несравненного каблучка. Другой, Антонио, перебрался к верховьям Дуэро и в раздумье несет бремя песен, как тяжкий недуг.
Но каждым из нас движет предпочтение. И если предложат выбрать одного из братьев, я остановлюсь на стихах Антонио. По мне они задушевней, насыщеннее и глубже.
Знаю лишь две его книги, но других ведь, кажется, и нет. В 1907-м он опубликовал «Одиночества», а в нынешнем году среди гиблого, гнетущего, нескончаемого молчания испанских поэтов выпустил в свет «Поля Кастилии».
На странице, открывающей этот последний сборник, автор набрасывает свой портрет и, следом за биографическими деталями, со смиренным жестом признает, что:
известен тщетным блеском топорного наряда,
в четырех строках формулируя свое поэтическое кредо:
Бог весть, романтик, классик… Остаться бы строкою
сродни клинку, что воин потомкам в дар оставил,
прославленному верной, недрогнувшей рукою,
а не клеймом умельца, чеканенным на стали.
Особенно замечательна последняя строка. В выемке ее цезуры старая поэзия как бы встречается с новой, только что явившейся и спешащей на смену. Эта строка — словно клинок в руке, а не на стене гостиной или в витрине музея, клинок, который ранит и убивает и на чьем обнаженном лезвии солнечные блики складывают голову, по-детски смеясь. Строка — словно клинок в деле, который подытоживает вытянутую руку, как та, в свою очередь, — не знающее покоя сердце.
Было время, когда поэзией считали такое:
В тот жаркий вечер давнего июля
наскучил мне Марк Туллий,
Овидий с Плавтом и Анхиз с Медеей…
В детстве нас уверяли, что это и есть поэзия. И кому было поведать, как радостен и праздничен нам казался мир? Тон в поэзии задавали чиновники. Ценились стихи, неотличимые от прозы, и проза, слыхом не слыхавшая о ритме. Для начала требовалось восстановить в правах саму субстанцию поэзии, отстоять, пусть даже перегибая палку, простую мысль, что строфа — это зачарованный остров, куда для слова с берегов прозы нет другого пути — только прыжком в царство фантазии, преображаясь и пропитываясь новыми ароматами, как те корабли, что в древние времена возили с Цейлона пряности. Между будничным разговором и поэтической строкой нет никаких мостков. Мир должен умереть, чтобы воскреснуть в метафоре и трепете чувства.
Этому нас учил Рубен Дарио, божественный индеец, укротитель слова, дрессировщик скакунов ритма. Его стихи стали школой поэтической ковки. Десять лет истории нашей литературы прошли под его знаком.
Но сегодня нужно другое. Слову возвратили эстетическое самочувствие — ничем не ограниченную выразительную силу. Тело стиха спасено, теперь необходимо вернуть ему душу. А душа стихов — это душа их автора. И она не исчерпывается чередованием слов, метафор и ритмов. В ней должно шевельнуться дыхание мира, вдохновителя любой подлинной жизни, spiraculum vitae, как любили говорить немецкие мистики.
В стихах Мачадо я вижу начало совсем новой поэзии, чьей центральной фигурой мог бы стать Унамуно, не презирай он в глубине души всякое чувство. Слух, зрение, осязание — вотчина поэта; поэт начинается с культуры чувств. Платон, которого иные невнимательные умы считают беглецом в мир сверхчувственного, не уставал повторять, что у истоков воспитания человеческого в человеке обязательно лежит многодневная дисциплина чувств, или, как он выражался, ta erotica. А в области непосредственного чувства поэт всегда даст фору философу.
Но оставим эти сложные материи. Антонио Мачадо уже в «Одиночествах» показал, что — в отличие от своих современников — предпочитает описаниям чувство, душу, подлинную лирику. Возьмите, например, эти строки:
Я подумал: «Дивный вечер, нота колдовской цевницы,
полной лада и покоя,
дивный вечер, что мне делать с безысходною тоскою
в темноте своей гордыни, в мыслящей моей темнице?
Или вот эти:
И в конце находим
туманный призрак в допитом бокале
и — горстка праха — ловим запах сада,
как будто нас нежданно приласкали,
где оживает старая, но не потерявшая поэтической силы философия Анаксагора, для которого любой предмет состоит из тех же первоначал, что все остальные, почему они и понимают друг друга, чувствуя, переживая и вместе оплакивая по вечерам общие беды. Человек создан из той же воды, земли, огня и воздуха в их бесконечных сочетаниях.
Дальше читаем:
И вот мы у тропинки застыли в ожиданье.
Сменяются минуты, но все, что нас снедает, —
отчаянные жесты, которыми свиданье торопим мы…
Терпенье: она не опоздает.
И все же поэт еще не вполне освободился от описательности. Его сегодняшнюю манеру я бы назвал переходной. Временами взгляд ему застит окрестность, обступающий мир, хотя и почти развоплощенный чувством, истончившийся до полупрозрачных символов сути.
С другой стороны, строгая сдержанность песен и куплетов в народном духе тоже заставляет его все больше высветлять ткань воспоминаний: простота, сила и прозрачность ближе самому складу поэта, ведомого по жизни, как он сам признается, «неспешным сердцем».
Так он и складывает строфу за строфой. Каждая — сплетение нервов и мышц, сама искренность и неподдельность, и, может быть, лучик здесь — много лет назад сказанное о полях Кастилии.
Перечитайте несколько раз, взвешивая каждое слово, хотя бы вот этот отрывок:
Я различал далекий пик старого чекана
и гребень, что круглился, как герб золототканый,
лиловые нагорья над бурыми краями —
обломки лат, забытых давнишними боями,
безлесые отроги продутой ветром сьерры,
где непомерным луком сгибается Дуэро
и окружает Сорыо. А Сорья — как бессонный
страж на кастильской башне бойницей к Арагону.
Я видел кромку неба сквозь сумрачные складки
гряды в дубах и вязах, скалистые распадки,
которые сменялись убогими лугами
с пасущейся отарой и легшими быками
за жвачкою, и берег с горячим силуэтом
высоких осокорей, омытых летним светом.
Разве перед нами не сама святая земля старой Кастилии, неповторимой уже в этом одном — глубочайшем, но сдержанном благородстве и достоинстве? Заметьте, как скрадены оттенки лиловых холмов и бурой земли. Эти неброские эпитеты — минимум опоры, которая нужна воображению, чтобы увидеть их воочию, въяве перенестись в сокровенную поэтическую — и только так, через поэзию открывающуюся — реальность: увидеть землю Сорьи в облике высящегося на сторожевой башне воина со щитом и арбалетом, в шлеме и латах. Этот мощный, из глубины проступающий образ очеловечивает округу, придавая живой трепет, дыхание, почти портретность бедной и застывшей реальности лиловых и бурых полей. Открытые взгляду черты и краски как бы пропитаны здесь историей Кастилии, ее героическим прошлым пограничной полосы, вчерашними и нынешними хозяйственными тревогами, и все это, заметьте, без единой ученой сноски, ничего не говорящей сердцу.
Другое стихотворение, «По землям Испании», завершается образом человека этих мест:
Покинутый сынами, пустеет дом на взгорье;
смерчи, буравя русла, поднявшуюся глину
по освященным рекам несут в просторы моря, —
а он корпит и терпит, грызя свою долину.
Он — естественное порождение этих провинций,
краев, где дремлют войны и молятся аскеты,
нерайской этой пашни, где, вечно неприкаян,
землей орлов над кручей, окраиной планеты
бездомным привиденьем проходит мрачный Каин.
Сегодня, в первую ночь 1937 года, когда уходит минувший год, который оказался для Испании «страшным годом» — геенной огненной, мне позвонили сюда из парижского отделения «Ла Насьон» и сказали, что умер Унамуно. Что написано в медицинском заключении о причинах его смерти, я не знаю, но, как бы то ни было, уверен: Унамуно умер оттого, что у него «болела Испания». Читатель с полным правом может посчитать мое утверждение лишь громкой фразой. Я не стану спорить по разным причинам, в том числе и потому, что мне пришлось бы говорить на некоторые темы, которые я вот уже несколько лет обхожу молчанием. Но, вопреки мнению читателя, это и вправду не громкая фраза, а краткая формула пугающе конкретных обстоятельств. Недели две назад меня посетил мой голландский переводчик доктор Броувер, побывавший в сентябре или октябре в Саламанке. Он коротко пересказал мне свой разговор с Унамуно. Слушая его, я думал: «Так ведь от всего этого Унамуно умрет». Свою отдельную, единичную смерть он вписал в неисчислимые смерти, которыми обернулась теперь испанская действительность. Он поступил правильно. Его жизненный путь был завершен. Он встал во главе двухсот тысяч испанцев и вместе с ними эмигрировал далеко и навсегда. За эти месяцы умерло столько наших соотечественников, что мы, оставшиеся в живых, словно бы даже стыдимся того, что тоже не умерли. Правда, некоторых из нас в какой-то мере утешает сознание, что и мы были близки к тому, чтобы подвергнуться простой процедуре превращения в ничто.