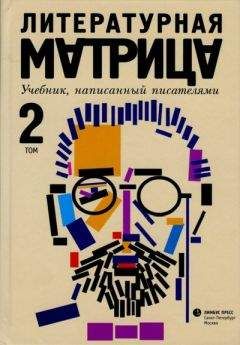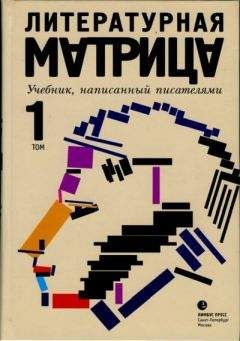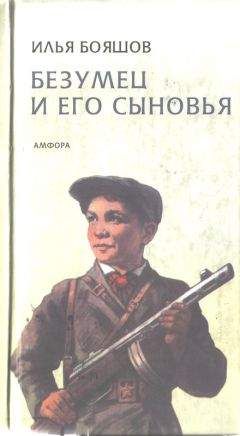А пошлости и уродства Булгакову хватало в том, что он видел вокруг себя, в советском коммунальном аду. И он вдруг почувствовал, что его романтический идеал реальностью никогда не обернется — театральная декорация останется декорацией: потрогай нарисованный домик — и краска осыплется. Без внятных объяснений, без видимых причин, без конкретного знания о том, что же на самом деле там, в Европе, творится — он вдруг разочаровался в своем идеале. Разочарование пришло не от знания чужого — но от болезненного осознания своего, которое ничем иным не заменишь. Уютный рай, куда отправлены Мастер и Маргарита, — он соткан из каких-то книжных представлений, а в реальности за пределы собственной судьбы и собственной боли убежать невозможно. И боль, не проходящая боль сжимала и сжимала сердце, не отпускала, не позволяла жить иначе. Он так и ответил Сталину — не притворяясь, не стараясь угодить вождю: «Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может».
Он и правда не мог без России. Но не мог и с ней. Он был совершенно лишним в своей стране, несвоевременный писатель Булгаков — имя которого Маяковский включил в «словарь умерших слов»[363].
То, что Булгаков для своего времени был устаревшим, — не подлежит никакому сомнению. Выражение «не принял своего времени» не описывает в точности того, что происходит с художником, который чувствует, что время не право — а он один прав. Доказать свою правоту художник не в состоянии, да это и доказать невозможно, поскольку право всегда время — уже одним тем, что оно объективно существует. Есть литературные салоны и салонные кривляки, есть ожиревшие нэпманы и паскудные чиновники, есть налоги и квартплата, есть ежедневное унижение бытом, есть фальшивые призывы двигаться вперед — но как бы все это ни было фальшиво, это все объективно существует. Это невозможно не принять — от твоего неприятия реальность не перестанет быть. Одному человеку не по силам «выправить сустав у времени» — вот и Гамлет постарался, да ничего не вышло. Дурацкое выражение «попутчик революции»[364] как нельзя более точно передает положение того, кто не хочет идти в ногу со временем — но и уйти от своего времени не может, потому что уйти ему некуда, нет в природе другого времени, есть только одно, вот это. Единственное, что может сделать художник, — это предъявить времени счет, поставить реальности диагноз (а ведь Булгаков был врачом, ставить диагноз — его прямая профессиональная обязанность). Поразительным образом, ставя диагноз большевистской и нэпманской России, Булгаков рассказал и о времени вообще — и о незнакомой ему Европе в том числе. Он и не подозревал, что пишет универсальный портрет времени. Те же жирные рожи привилегированных деятелей культуры, те же администраторы и директора — только без красных партбилетов — существовали тогда повсеместно. Тот же обыватель, объявивший себя высшим достижением общественного развития, тот же карьерист, тот же бойкий журналист. Замените зал собраний Массолита на зал дебатов Парижской академии тех лет — и вы получите примерно ту же картину. Если бы Булгакову привелось уехать в эмиграцию, если бы случилось чудо и он сумел почувствовать западную культуру изнутри — он бы увидел, что его диагноз исчерпывающе верен. Однажды случился примечательный разговор между Булгаковым и Маяковским — идейными противниками. Разговор происходил за игрой в бильярд, и писатели обменивались привычными колкостями, на которые оба были горазды. Неожиданно Булгаков серьезно сказал: «А ведь нас обоих похоронит ваш Присыпкин»[365], — и Маяковский ответил ему: «Совершенно с вами согласен». И если два столь разных писателя сошлись на том, что коллективную могилу им роет обыватель, то отчего же не сделать совсем незначительного усилия и не увидеть, что этот обобщенный обыватель к тому времени уже повсеместно вышел историческим гегемоном — и на всех континентах уже торжествовал гражданин (он же господин) Присыпкин. Дальнейшая история творилась уже по его, присыпкинскому, слову, дальнейшее уже было предрешено. В то самое время, когда Булгаков отсылал своих героев в увитый виноградом домик, — войска нацистской Германии уже входили в Чехословакию и Польшу. Финал великого русского романа совпал по времени с началом общеевропейской бойни — от которой уже некуда было бежать, ни в дом под липами, ни в эмиграцию, ни к вечным ценностям, ни на Большие бульвары.
Насколько то, что случилось с миром в дальнейшем, было бы неожиданно для Булгакова — непонятно. Во всяком случае, распространенная оценка развития мировых событий и булгаковская концепция русской революции — совпадают. Булгаков предельно лаконично изложил свою концепцию происшедшего со страной в «Собачьем сердце». По представлению Булгакова произошло так. В культуре страны изначально представлены три силы: интеллигенция, которая умеет и обязана воспитывать; народ, который дик и нуждается в обучении; искусители, которые используют именно дикость народа ради достижения власти. Профессор Преображенский, пролетарий Шариков и активист Швондер — вот представители этих сил. Михаил Булгаков — в силу собственных происхождения, образования, идеалов — все свои симпатии отдал профессору Преображенскому. Для него ничего более высокого в русской культуре в принципе не существовало, нежели этот европеизированный слой интеллигенции — роднящий хоть как-то Россию с просвещенной Европой. Драма профессора, изобретение которого используется ему во вред, — эта тема одна из главных у Булгакова. Профессор Персиков (из «Роковых яиц»), изобретатель Тимофеев (из «Ивана Васильевича»), профессор-идеалист Голубков (из «Бега»), профессор Преображенский (из «Собачьего сердца») — это самые любимые булгаковские герои, он никого лучше их в России просто не знает. Не продажные литераторы, не хлыщи-журналисты, не аппаратчики, не обыватели, но носители объективных знаний (как сказали бы сегодня — носители цивилизации) — вот единственно на кого в России можно опереться. Впрочем, деятельность этих профессоров заведомо обречена. Профессору под силу превратить пса в человека (вот что может интеллигенция сделать с народом, вопреки его варварской природе), но затем неизбежно придет партийный активист и будет использовать как раз эту самую варварскую природу, лежащую в основе психики нового человека, — и сделает из нового человека послушное орудие. Стоило ли тогда делать из пса — человека? Что лучше: сохранить народ таким, каким он был от века, — или дать ему свободу и просвещение? Чем обернется это просвещение, если оно не ложится на культуру? Пес оказывается страшен — науськанный на своего создателя злонамеренным активистом. Здесь следует, кстати, отметить и то, что председатель домкома Швондер сознательно изображен инородцем, тех же кровей, что и ненавидимые Булгаковым Маркс и Каутский (их переписку профессор Преображенский в ярости приказывает спалить в печке). Ему, нерусскому, дела нет до русской судьбы и русской проблемы. Булгаков не был антисемитом, как про него иногда говорят, однако для него было несомненным, что русскую судьбу можно решать лишь изнутри русской культуры, а пришлым интернациональным энтузиастам в этой культуре делать нечего. В России, где дикий народ следовало постепенно обучать и прививать ему навыки цивилизованного образа жизни, — случилось так, что обучение азам знаний заменили на обучение насилию.
Классическое описание причин Второй мировой войны рассказывает примерно о том же самом — применительно к народным массам Европы. Народу вместо образования дали идеологию, демагоги играли на его природных инстинктах, воодушевили толпу примитивными призывами. И вот результат: оболваненные массы пошли за фашистами, нацистами, коммунистами — и все они сцепились в смертельной схватке.
Насколько данная картина событий выражает подлинную реальность — другой вопрос. Важно то, что Булгакову представлялось: наибольшая опасность может исходить от стихии народного варварства — воплощенной то в петлюровцах, то в Шарикове, то в обывателях коммунальных квартир. Эта бешеная слепая стихия — главный враг цивилизованных граждан; ее требуется обуздать, остановить, поставить плотину поперек разгула дикарства. Врач, профессор, интеллигент — вот те немногочисленные персонажи булгаковских книг, которые сохранили ясность сознания. Стихия их крутит в своем водовороте, а они противостоят ей упорным нежеланием смириться, — но и поделать со стихией ничего не могут.
Представлена в «Собачьем сердце» и четвертая составляющая исторического бытия культуры, а именно грозная сила, вершащая окончательную судьбу героев. Пожалуй что, эта сила и есть последняя надежда интеллигенции: коллеги по цеху предадут и затравят, чиновники выселят из квартиры и лишат куска хлеба, народ — дай ему только волю — разорвет. Но все же в устройстве общества существует препона стихии и произволу. Странно такое произнести, но эта спасительная сила — государство, государственная власть.