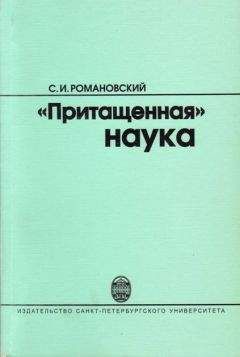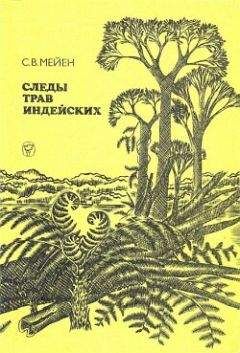Это в дальнейшем, уже в начале XIХ века члены Академии записали в свой Устав примат фундаментальной науки. Наука стала «чистой», академики отказались решать не только практически важные задачи, но даже заниматься преподаванием.
Ломоносову более всего импонировал подход к науке Пет- ра I. Он прекрасно понимал, что Петр начал коренную ломку российской действительности, страна полностью перестраивалась на новый лад, ей были остро необходимы инженеры, строители и военные специалисты. Надо было, образно говоря, сначала построить прочный и уютный дом, а уж затем, вальяжно расслабясь у камина, можно было позволить себе и пофилософствовать в компании умных людей. Установка эта оказалась, хотя и понятной житейски, но крайне пагубной для развития науки. А главное, она стала вечной для русской науки, ибо уютный и теплый российский дом так и не удается построить по сей день. Возможно и потому, в частности, что не то строили, убоявшись развития науки, а потому выказывая ей традиционное государственное небрежение.
Так или иначе, но подобная ориентация на приоритеты национальной науки стала как бы своей и для самих ученых. Они впитали ее вместе с азбукой и иной науки помыслить не могли. Даже Ломоносов, накрывший своим могучим интеллектом все разрабатывавшееся в его годы научное поле, и тот основным приоритетом науки считал не поиск Истины, а ее практическую пользу [59], а применительно к исторической науке – государственную целесообразность и полезность. Практическую ценность научных открытий он называл «художествами» и наставлял своих коллег: «Профессорам должно не меньше стараться о действительной пользе обществу, а особливо о приращении художеств, нежели о теоретических рассуждениях» [60].
Правда и эти пожелания повисали в воздухе, ибо для разработки конкретных, да к тому же практически важных проблем необходимо, по меньшей мере, два условия: чтобы эти проблемы были действительно нужны обществу, т.е. востребовались им, да и иная культура научного творчества, в частности экспериментальная, отторгавшаяся, как мы отметили, традиционно русским миросозерцанием.
Именно из-за внутренней убежденности ученых в ненужности их труда проистекали все чисто российские «особости» отношения к науке, которых при иных условиях просто бы не было.
На самом деле, если бы русские ученые чувствовали свою нужность государству, разве пришло бы им в голову рассуждать о полезности науки, о ее приближении к народу, о том, что важнее – факты для теории или теория для фактов и тому подобные глубокомысленные сентенции. Причем все это было актуально для русской науки еще во времена Ломоносова и только поэтому данные «особости» мы назвали ломоносовскими корнями русской науки [61].
Ломоносов не уставал призывать «к беспрепятственному приращению наук и приобретению от народа к ним почтения и любления» [62]. А почти через сто лет после Ломоносова Герцен полагал, что науку будут развивать не кабинетные затворники, не университетские профессора, не «современные троглодиты и готтентоты», а «люди жизни», способные «преодолеть разобщенность научных дисциплин и достичь органического единства науки, философии и практики» [63].
Еще одна, уже в прямом смысле ломоносовская, традиция русской науки касается, в первую очередь, гуманитарных наук, в которых конечный результат исследования может зависеть, в частности, и от исходной позиции ученого: является ли он патриотом своего отечества и охраняет его от «вредной» информации либо он, прежде всего, ученый и для него ничего, кроме истины, не существует.
Сторонником первого подхода, можно даже сказать его автором, и был Ломоносов. Ему противостоял его «вечный» оппонент историк Г.Ф. Миллер. Спор их длился долго, перерос в личную вражду. Касался же он любви к отчизне, того, «кто любит ее больше, тот, кто постоянно славит и воспевает ее, или тот, кто говорит о ней горькую правду» [64]. Грустная ирония исторической судьбы Ломоносова в том, что он, понимая патриотизм ученого, мягко скажем, весьма своеобразно, по сути сам преподнес советским потомкам свое имя, как идейное знамя борьбы с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. Об этом, впрочем, речь впереди.
Одним словом, credo Ломоносова-историка стало традиционно-российским: если факты «порочат» славу России, сообщать о них не следует; если факты «оскорбляют» власть, извлекать их из архивов не надо; если факты укладываются в концепцию, противоречащую государственным или политическим интересам сегодняшнего дня, о данной концепции лучше забыть как о «несвоевремен-ной». Также, кстати, считали и российские правители всех времен. Но особенно близкой данная «философия истории» оказалась для советских правителей. Одним словом, если перевести мысли Ломоносова в родные для нас терминологические ориентиры, то станет ясно: история для Ломоносова – наука партийная.
Пагубность противопоставления русской и европейской науки пытливые русские умы осознали еще в середине XIX века, хотя в правительственных кругах борьба за национальные приоритеты продолжалась с прежней силой. Сокурсник И.М. Сеченова по Московскому университету Н.А. Белоголовый вспоминал, что в царствование Николая I делалось все возможное, чтобы «разобщить» русскую и мировую науку [65].
Поняли, что заигрались с национальными приоритетами лишь во время реформ Александра II. При подготовке нового университетского устава 1863 г. «Журнал Министерства народного просвещения» писал: «Главный недуг нашего общества заключается в недостаточности знания… А в последнее время… не менее гибельный – это полузнание, со всеми неизбежными своими спутниками, как-то: самонадеянностью, заносчивостью, неосновательностью и вместе с тем резкостью суждений, неуважением к науке, непризнанием “факта”» [66].
В полной мере все эти отходы традиционалистского отношения к науке проявились в 60-х годах XIX века, когда в русской публицистике развернулась ожесточенная критика «Происхождения видов» Ч. Дарвина. Домыслились до того, что Н.Г. Чернышевский, к примеру, вполне искренне утверждал, что дарвинизму сначала надо было дать политическую оценку, а уж затем обсуждать его научное содержание. Политически, как считал наш «революционный демократ» (осмысленно ли вообще это словосочетание?), дарвинизм «глубоко ущербен». Именно по этой причине Дарвин обрел в России еще одного своего злейшего врага. Логика Чернышевского на удивление проста: «зло» борьбы за жизнь не может дать положительного эффекта и, следовательно, не может считаться основой эволюции видов.
Критика, как видим, с позиций все той же «народной науки», когда знание критикуемого предмета совсем не обязательно. Поэтому говорить о том, что Чернышевский не понимал основы дарвинской теории излишне – он и не собирался вникать в нее, ему это было не нужно. Чернышевский, надо сказать, был не одинок. Его подход к дарвинизму разделялся в те годы многими образованными людьми в России, включая Л.Н. Толстого, назвавшего критику Дарвина Чернышевским «прекрасной» и увидевшего в ней «силу и ясность» [67].
Конечно, в теории английского естествоиспытателя было за что зацепиться русскому уму, ибо мы помним, что русские мыслители считали чуть ли не основным предназначением науки – улучшение условий жизни людей. Поэтому дарвинизм не только составлял оппозицию религиозному креационизму, но и поддерживал, пусть и неявно, «движение в пользу социально-политических перемен» [68].
* * * * *
Вернемся, однако, к начальной точке нашего анализа, т.е. к тому времени, когда Петр I, силой притащив науку в Россию, прописал ее в созданной по его указу Академии наук. Не будем к тому же забывать, что Академию наук он организовал как обычное бюрократическое учреждение, правда привилегированное, ибо подчинил ее лично себе. Последствия подобной «милости» не замедлили сказаться: в продолжение всего XVIII века Академия была в значительной мере «придворным институтом», а задачей академиков – помимо научных исследований – стало развлечение монархов разными хитроумными приборами и заморскими диковинками [69].
Правда, справедливости ради надо заметить, что в самые первые годы существования Академии условия для научного творчества были благоприятны еще и потому, что ученые в значительной степени были предоставлены сами себе, их пока ни о чем не просили, с них ничего не требовали. Просто Двору было не до Академии наук, ибо начавшаяся после смерти Петра I дворцовая чехарда отодвигала Академию в тень. Привело это к отчетливому расслоению внутри самой Академии: таланты проявили себя, а бездари стали кучковаться в различные академические группировки.