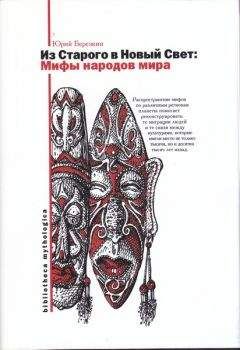В фокусе концепции Дьяконова — понятие тропа. Тропы — это разного рода фигуры речи (метафоры, метонимии, омофонии), необходимые для того, чтобы выразить общие понятия через понятия предметные и конкретные. Суть мифологии, по Дьяконову, в том, что в ней с помощью тропов не просто описывается внешний мир, но раскрывается процесс возникновения и изменения мира: «Миф есть связная интерпретация процессов мира, организующая связное восприятие их человеком в условиях отсутствия абстрактных (непредметных) понятий. Как организующее начало миф аналогичен сюжету: сюжет организует словесное изложение явлений мира в их движении по ходу вымышленного рассказа, миф организует мыслительное восприятие действительных явлений мира в их движении при отсутствии средств абстрактного мышления. <…>. Миф — это умственный и словесный след не только того, о чем думал, полагал, верил и что чувствовал древний человек, но и того, как он думал».
Понимание первобытного мышления как исключительно ассоциативного, эмоционального, «тропического» (что и порождает в итоге мифы с их абсурдными образами и поворотами действия) наталкивается на очевидную трудность. В своей повседневной деятельности человек всегда был вполне логичен. Природное и социальное окружение, представляющее для него практический интерес, человек нигде не познавал с помощью тропов. Мы, конечно, не можем доказать это, побеседовав с неолитическими жителями Иерихона или с палеолитическими обитателями Южной Франции, но у представителей тех народов, с которыми могли познакомиться этнографы, никаких странностей в поведении не обнаружено. Доступные нам археологические материалы также не свидетельствуют о том, что их оставили люди с иной психикой. Получается, что мифологический троп имеет ту же природу, что и художественный, а мифологическое творчество правильнее именовать мифопоэтическим (именно этот термин употреблял В. Н. Топоров). Следует говорить не столько о мифопоэтическом познании мира, сколько о мифопоэтическом видении мира, о мироощущении.
Как только что было сказано, у Дьяконова имелись предшественники. В России в период между мировыми войнами отчасти близкие идеи развивала О. М. Фрейденберг (1890–1955). В ее представлении миф был цепочкой метафор. Переходя от одной метафоры к другой, Фрейденберг могла установить связь между любыми описываемыми объектами и доказать все, что хотела, дополняя фейерверк парадоксальных сопоставлений ссылками на якобы отраженные в них стадии в развитии культуры. Вот образец ее стиля из статьи, посвященной сравнению кельтской истории о Тристане и Изольде с античными мифами (сборник «Тристан и Исольда»):
Так, Тристану приходится отвоевывать чудесную собаку, чтобы послать ее Исольде и тем доставить ей забвение печалей. Геракл тоже отвоевывает собаку (имеется в виду двенадцатый подвиг — привести адского пса Кербера. — Ю. Б.), но мы узнаем, что это есть собака смерти и что он уводит ее из преисподней точно так же, как — в параллельном мифе — Алкесту. Это показывает, что отвоевание Тристаном ‘чудесной собаки’ есть то же самое, что отвоевание им Исольды: ведь в том и в другом случае он бьется с чудовищем, с великаном и драконом, и добывает либо ‘женщину’, либо ‘собаку’, две подземные разновидности двух разных стадий… Когда Исольда получает от Тристана этот дар (собачку. — Ю. Б.), она не хочет забвенья вдали от горестного друга и бросает собачку с высоты окна в море. Этот прыжок или сбрасывание в море с высоты — типичный солнечно-загробный мотив. Словом, с точки зрения стадиальной семантики фиванская собака функционально несет еще космические черты (‘солнце || преисподняя’), которые получают в ней оформление в период ее одомашнения и ее культа начиная с раннего земледелия… Костер Геракла есть тот же костер Тристана или костер Исольды, как атрибутивная черта их огневой сущности, данной им космическим мировоззрением.
Для Фрейденберг прикованная к скале Андромеда сама есть скала, подобно тому как мандельштамовский Прометей — «скалы подспорье и пособье». Но ведь речь-то идет не о поэзии, не о нашем восприятии античных мифов и даже не о реконструкции мироощущения создателей исчезнувших культур, а о попытках объяснить содержание совершенно конкретных древних текстов. Уместны ли здесь метафоры?
Рассуждения Фрейденберг предполагают, что образы и сюжеты мифологии возникают в подсознании и означают вовсе не то, что способен понять простой слушатель и читатель. Для возникновения этих образов требовалось особое «космическое» мировоззрение, господствовавшее где-то на заре существования человеческого рода. Речь идет о подсознании, причем о подсознании не отдельного человека и даже не отдельного коллектива, а человечества в целом, поскольку объектом анализа оказываются одновременно мифы разных народов, зафиксированные с промежутком в пару тысячелетий. И еще одно: средневековая Европа или античная Греция видятся Фрейнденберг глубокой «архаикой», утром, детством человечества, началом начал. Эта позиция наивна — в ретроспективе всемирной истории не то что греки, но и ранние индоевропейцы находились на весьма продвинутой «стадии» развития общества и культуры. Подобная ошибка типична для данного направления — Дьяконов тоже называл мифы хеттов, шумеров или скандинавов эпохи викингов «архаическими». Кроме того, глубокую «архаику» повсюду готовы видеть те специалисты, которые работают не с вещами, а с текстами. Время создания ранних письменных текстов кажется им зарей человеческого рода.
Во Франции в тот же период между мировыми войнами получила распространение теория А. Леви-Брюля о дологическом первобытном мышлении. Леви-Брюль (1857–1939) исходил из того, что религиозно-мифологические представления коренятся в психологии не отдельного человека, а социума, группы людей. Обобщая сведения о духовной культуре народов Африки, Австралии и Океании, он показал, чем именно мифологическое мышление своеобразно. Этих особенностей как минимум три. В мифологии не соблюдается закон исключенного третьего (предмет может быть и самим собой, и чем-то иным), отдельные разделы пространства и времени качественно неоднородны, различные объекты и их категории связаны мистической сопричастностью. Используя внелогическую систему понятий, первобытный человек описывает мир. Сделать это на основе логики он не мог уже потому, что не имел сведений о реальном устройстве мира.
В Германии одновременно с Леви-Брюлем к изучению мифологии обратился немецкий философ Эрнст Кассирер (1874–1945). В работе 1925 года «Мифическая мысль» Кассирер пришел к выводу, что конкретно-чувственное мышление может обобщать, только становясь знаком, символом, то есть одни предметы, не теряя своей конкретности, оказываются символами других предметов или явлений. Это близко теории тропов с той разницей, что если у Дьяконова явления просто вступают в ассоциации, образуя сложные, переплетающиеся цепи, то у Кассирера означаемое и означающее относятся к принципиально разным категориям. Мифическое сознание у Кассирера — это код, который можно расшифровать, подобрав верный ключ. Кассирер опирался на учение Вильгельма фон Гумбольдта о языке. Согласно ему, язык создает мир, отражает спонтанность духа, а в духе главное — свобода. В мифе дух свободно творит, освобождается от ограничений, самовыражается. Мифологическое познание примитивнее прочих, но лежит в их основе. Мифический текст нелогичен, но целостен.
При всех отличиях друг от друга представители данного направления воспринимали мифы как продукты творчества — пусть коллективного, бессознательного, но творчества. Явно или неявно, исследователи пытались объяснить, как и почему древние тексты приняли именно ту форму, в какой они нам известны. Однако максимум, что проясняют подобные теории — это эмоциональные связи и логические ассоциации между отдельными эпизодами мифов, которые, может быть, возникали в головах рассказчиков и слушателей мифов. Такое знание было бы полезным, будь мы уверены, что любой эпизод любого мифа оказался в нем «не случайно», что определенные мифологические сюжеты возникали именно в тех обществах, от которых они до нас дошли. Но вот подобной-то уверенности и нет. Хорошо известно, что если мифологическая традиция в своей полноте уникальна для каждого народа, то отдельные мифы легко заимствуются и переводятся с одного языка на другой. Носители каждой традиции истолковывают их на свой лад, причем любые истолкования равно допустимы. Почему, при каких обстоятельствах тот или иной мифологический сюжет возник «первоначально», — об этом мы не только ничего не знаем, но и сам вопрос, скорее всего, не имеет смысла. С таким же успехом можно с просить, откуда взялись слова нашего языка. Лингвисты ответят, какую форму имело слово в эпоху Древней Руси, как оно предположительно звучало на праславянском или даже на праиндоевропейском уровне. Об истории заимствованных слов надо будет узнавать от специалистов по тюркским, иранским или германским языкам. Однако как бы глубоко вглубь времен ни простирались реконструкции, мы по-прежнему будем бесконечно далеки от «начала» истории, от того времени, когда слова «появились впервые».