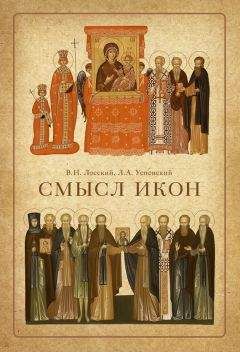Таким образом, Церковь постепенно создает новое – как по содержанию, так и по форме – искусство, которое в образах и формах материального мира передает откровение мира Божественного, делает этот мир доступным созерцанию и разумению. Искусство это развивается вместе с богослужением и так же, как богослужение, выражает учение Церкви, соответствуя слову Священного Писания. Это соответствие образа и слова было особенно ясно выражено определением VII Вселенского Собора, восстановившего иконопочитание. В лице отцов этого Собора Церковь, отвергнув компромиссное предложение почитать иконы наравне со священными сосудами, установила почитание их наравне с Крестом и Евангелием: c Крестом как отличительным знаком христианства и Евангелием как полным соответствием образа словесного и образа видимого[62].
«Храним не нововводно все, писанием или без писания установленные для нас церковные предания, от них же едино есть иконного живописания изображение, яко повествованию Евангельския проповеди согласующее <…>. Яже бо едино другим указуются, несомненно едино другим уясняются», – гласит определение священного Собора[63]. Из этого определения явствует, что Церковь видит в иконе не просто искусство, служащее для иллюстрации Священного Писания, но полное ему соответствие, а следовательно, придает иконе то же, что и Священному Писанию, т. е. догматическое, литургическое и воспитательное значение. Как слово Священного Писания есть образ, так и образ есть то же слово. «Что повествовательное слово передает через слух, то живопись показывает молча через подражание», – говорит свт. Василий Великий[64], и «этими двумя способами, взаимно друг другу сопутствующими <…> мы получаем познание об одном и том же»[65]. Другими словами, икона содержит и проповедует ту же истину, что и Евангелие, а следовательно, так же как и Евангелие, основана на точных, конкретных данных, а никак не на вымысле, ибо иначе она не могла бы ни разъяснять Евангелие, ни соответствовать ему.
Таким образом, икона приравнивается к Священному Писанию и Кресту как одна из форм откровения и богопознания, в которой совершается сочетание Божественных и человеческих воль и действий. И то и другое, помимо своего прямого значения, являет отражение горнего мира; и то и другое есть символ Духа, Который в них заключается. Следовательно, как содержание слова и образа, так и значение и роль их – одни и те же. Образ, так же как и богослужение, является проводником догматических определений и выражением благодатной жизни Священного Предания в Церкви. Через богослужение и через икону откровение становится достоянием и жизненным заданием верующего народа. Поэтому с самого начала церковное искусство получает и форму, соответствующую тому, что оно выражает. Церковь создает совершенно особую категорию образа, соответствующего ее природе, само назначение которого обусловливает его особый характер. Церковь – Царство не от мира сего (ср.: Ин. 18:36) – живет в мире и для мира, для его спасения. Она имеет особую, отличную от мира природу и служит миру именно тем, что она отлична от него. Поэтому и проявления Церкви, через которые она осуществляет это служение, будь то слово, образ, пение и т. д., отличаются от аналогичных проявлений мира. Все они носят печать надмирности, которая и внешне выделяет их из мира. Архитектура, живопись, музыка, поэзия перестают быть видами искусства, идущими каждый своим путем, независимо от других в поисках свойственных им эффектов, и становятся частями единого литургического целого, которое, отнюдь не умаляя их значения, предполагает отказ каждого из них от самостоятельной роли, от самоутверждения. Все они из искусств с самостоятельными целями превращаются в разнородные средства, выражающие, каждое в своей области, одно и то же: сущность Церкви, т. е. становятся разнородными средствами богопознания. Отсюда следует, что церковное искусство по самому существу своему является искусством литургическим. Литургичность его не в том, что образ обрамляет богослужение или дополняет его, а в их совершенном соответствии. Таинство действуемое и таинство изображенное едины как внутренне, по своему смыслу, так и внешне, по той символике, которая этот смысл выражает. Поэтому православный церковный образ, икона, определяется не как искусство той или иной исторической эпохи или как выражение национальных особенностей того или другого народа, а исключительно соответствием своему назначению, столь же вселенскому, как само Православие, назначению, определяемому самой сущностью образа и его ролью в Церкви. Будучи по существу своему искусством литургическим, икона, так же как и слово, никогда не служила религии, но, так же как и слово, всегда была и есть неотъемлемая часть религии, одно из средств к познаванию Бога, один из путей к общению с Ним. Отсюда понятно то значение, которое придает образу Церковь. Оно таково, что из всех побед над множеством разнообразных ересей одна только победа над иконоборчеством и восстановление иконопочитания были провозглашены Торжеством Православия, которое празднуется Церковью в первое воскресенье Великого поста.
Наиболее полно учение об иконе явлено VII Вселенским Собором (787) и святыми отцами-апологетами в иконоборческий период. В сжатой форме оно содержится в кондаке Недели Торжества Православия, установленного, как мы видели, в память победы над иконоборчеством. Текст этого кондака следующий: «Неописанное Слово Отчее, из Тебе, Богородице, описася воплощаемь, и оскверншийся образ в древнее вообразив, Божественною добротою смеси; но исповедующе спасение, делом и словом сие воображаем».
Седьмой Вселенский Собор. Фреска Успенского собора Московского Кремля. 1642–1643 гг.
В отличие от 82-го правила Трулльского Собора, дающего указание на то, каким способом можно наиболее полно и точно выразить в образе учение Церкви, кондак дает догматическое разъяснение канонического образа, т. е. образа, уже вполне соответствующего своему назначению и отвечающего требованиям литургического искусства. Это кратко, но необычайно точно и полно сформулированное учение об иконе тем самым содержит и все учение о спасении. Оно свято хранится Православной Церковью и лежит в основе православного понимания иконы и отношения к ней.
Первая часть кондака раскрывает связь иконы с христологическим догматом, ее обоснование Боговоплощением. Следующая его часть раскрывает смысл Боговоплощения, исполнение замысла Божия о человеке, а следовательно, о мире. Обе эти части кондака являются, по существу, повторением святоотеческой формулы: «Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом». Последняя часть кондака являет ответ человека Богу, наше исповедание спасительной истины Боговоплощения, приятие человеком домостроительства Божия и участие в нем. Последними словами кондака Церковь указывает, в чем выражается наше участие и в чем состоит осуществление нашего спасения.
Характерной чертой кондака является то, что он обращен не к одному из Лиц Святой Троицы, а к Божией Матери, т. е. представляет собой литургическое, молитвенное выражение догматического учения о Боговоплощении. Очевидно, что как отрицание человеческого образа Спасителя логически приводит к отрицанию Богоматеринства[66], так и утверждение Его иконы требует прежде всего выявления роли Божией Матери, Ее выделения как необходимого условия Боговоплощения, как причины описуемости Бога. По толкованию святых отцов, основание для изображения Богочеловека Иисуса Христа вытекает именно из изобразимости Его Матери. «Поскольку Христос, – говорит прп. Феодор Студит, – происходит из неописуемого Отца, Он, будучи неописуем, не может иметь искусственного изображения. В самом деле, какому равному образу могло бы быть уподоблено Божество, изображение которого в боговдохновенном Писании совершенно запрещено? Поскольку же Христос рожден от описуемой Матери, естественно, Он имеет изображение, соответствующее материнскому образу. А если бы Он не имел (искусственного изображения), то и (не был бы рожден) от описуемой Матери, и, значит, имел бы только одно рождение – очевидно, от Отца; но это является ниспровержением Его домостроительства»[67]. Итак, раз Сын Божий стал Человеком, то Его и следует изображать как человека[68]. Эта мысль красной нитью проходит у всех апологетов иконопочитания. При этом описуемость Сына Божия по плоти, воспринятой Им от Богоматери, противополагается (как прп. Иоанном Дамаскиным, так и отцами VII Вселенского Собора) неописуемости Бога Отца, непостижимого и невидимого, а потому и неизобразимого. «Почему мы не описываем Отца Господа Иисуса Христа? Потому что мы не видели Его <…>. И если бы мы увидели и познали Его так же, как и Сына Его, – то постарались бы описать и живописно изобразить и Его (Отца)…»[69] – говорят отцы этого Собора. Тот же вопрос об изображении Бога Отца возникает в 1667 г. на Большом Московском Соборе в связи с распространением в то время в России западной композиции Святой Троицы с изображением Бога Отца в виде старца. Собор, ссылаясь на святых отцов, и в частности на великого исповедника и апологета иконопочитания прп. Иоанна Дамаскина, указывает на неописуемость Бога Отца и запрещает Его изображение на иконах.