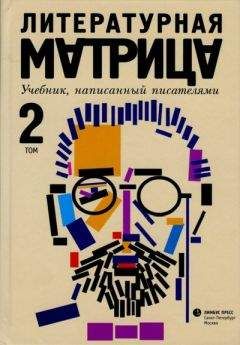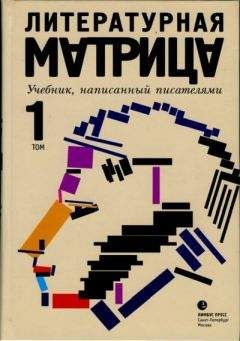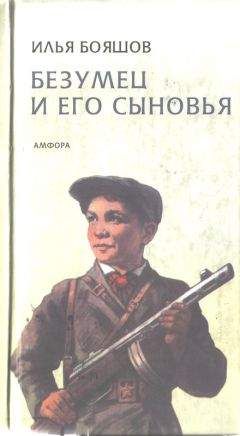В романе Мастер показан тяжело больным, у него болит душа, он бесконечно устал.
Булгаков не побоялся изобразить своего героя издерганным, запуганным, нервным. Мастер печален навсегда, он все больше молчит. Да и что говорить: все что хотел, он уже написал в романе о Христе. Евангелие, написанное Мастером (иногда критики называют эту книгу «Евангелием от Сатаны»), довольно странное: по Булгакову выходит, что истина и добро могут быть адекватно восприняты только властью — и пророк никогда не найдет понимания ни в ком, кроме своего палача. Немудрено, что такая книга понравилась сатане — и Во-ланд спасает новое евангелие от уничтожения и вручает миру как последнюю правду. Немудрено и то, что евангелист, додумавшись до такого грустного сценария жизни, впадает в тоску. Искусство нового времени знает несколько таких судеб — одиночек, впавших в тоску из-за того, что сказали слишком много или увидели нечто крайне страшное. Идти в ногу с веком они не могут, выжить в одиночестве — не могут тоже. Так погибли Кафка и Ван Гог, так погибли Маяковский и Модильяни, — все они, каждый по-своему, оказались несвоевременными художниками. Так умирал и сам Булгаков: он очень хорошо знал, о чем пишет, когда описывал душевную боль Мастера.
Мастер снимает комнату в подвале дома в арбатском переулке; комната описана довольно точно — речь идет о деревянном двухэтажном доме в Мансуровском переулке, где еще двадцать лет назад существовал тот самый подвал, с окошками на уровне земли, в которые и стучала Маргарита, приходя на свидание. Подвальная комната была маленькая, метров в десять, с печкой, покрытой черной эмалью. Именно в этой печке Мастер и сжег свой роман о Пилате и Христе, о власти и истине. Такая прямая цитата из биографии Гоголя (сожженный второй том «Мертвых душ») отчего-то не наводит на мысль, что если рукопись Мастера не горит, то не должна бы сгореть и рукопись Гоголя, а уж если сгорела рукопись Гоголя, то как можно утверждать, что рукописи не горят? Рукописи, к несчастью, горят отлично — со времен Александрийской библиотеки[366] это слишком хорошо известно. Еще при жизни Булгакова это снова доказали в Европе, сжигая книги на площадях городов, — но тогда, в сороковом, заканчивая роман, Булгаков страстно желал — вопреки одиночеству и безвестности — сказать, что он пишет такую книгу, которая переживет пустое время, переживет моду, останется в веках.
В одном из автобиографических рассказов («Самогонное озеро») Булгаков описывает свой собственный быт — в коммунальной квартире, с вечно пьяными соседями, которые бьют детей. Он кричит соседям: «Не смейте бить!»; слышит в ответ: «Ежели кому не нравится, пусть идет туда, где образованные»; снова возвращается к столу, пытается сосредоточиться. За дверью ругань и плач, звон разбитого стекла, мат, грохот… И тут «я почувствовал, что я стал железным»: «роман я допишу, и, смею уверить, это будет такой роман, что от него небу станет жарко».
Требуется мужество для ежедневной работы, если эта работа не нужна никому, кроме тебя. Офицерская выправка, набриолиненный пробор, чисто выбритый подбородок, монокль, галстук — Булгаков самим обликом своим, подчеркнуто аккуратным, противостоял хаосу советского быта. Каждый день к столу, каждый день писать — упорством и волей, вопреки болезни, наперекор травле, в одиночестве и нищете, писал Михаил Афанасьевич Булгаков свой последний роман. Он диктовал его, будучи смертельно больным, — а это одна из самых веселых в русской литературе книг. Так диктовал умирающий Гашек своего задорного «Бравого солдата Швейка» — и мы, смеясь над фразами Булгакова и Гашека, забываем, чего стоили авторам эти остроты. Так что в булгаковском романе, в его литых строчках содержится, помимо всего прочего, еще урок стоицизма.
Роман долго не публиковали: лишь в 1966–1967 годах он был впервые напечатан в журнале «Москва» — с цензурными пропусками, искажениями и сокращениями[367]; полное книжное издание вышло лишь в 1973 году. Правды ради надо сказать, что роман не издавали не оттого лишь, что в нем содержались карикатуры на советских чиновников — просто роман оказался абсолютно несвоевременным. Трудно было представить себе нечто менее актуальное. Спустя год после завершения книги началась Вторая мировая война, которая сменила все представления — в частности, представления об искусстве. На фоне того, что происходило со страной и с миром, страдания непризнанного писателя и его богемной подруги выглядели мелковатыми. Что же это за страдания такие — если сравнить их с тем, что реально, фактически происходило с человечеством в эту эпоху?! Да, заболел нервным расстройством; да, не печатали — но ведь не гнил в окопе, не закрывал телом амбразуру, не был расстрелян или уничтожен в газовой камере. Гибли миллионы, рушились города, по всей Европе работали лагеря смерти, беженцы брели из страны в страну, — и драма Мастера и Маргариты перестала казаться трагедией, превратилась в сентиментальную повесть. Вряд ли в те годы русский читатель оценил бы рассказ о справедливом Сатане — слишком явным было присутствие Сатаны в жизни, и никакой благости от этого присутствия не наблюдалось. Следующие события русской истории — разоблачение культа личности, рассказ о репрессиях ГБ, правда о лагерях, подсчет безвинно убитых — все это никак не способствовало тому, чтобы история любви в арбатском подвальчике вышла на первый план. Симонов и Твардовский, Солженицын и Шаламов сказали куда более существенные вещи о том времени и о подлинной драме страны.
Лишь в семидесятых годах, когда советский быт обуржуазился, когда вновь народившиеся обыватели стали задумываться о дачах и машинах, когда понятие «взятка» сызнова прочно вошло в обиход, когда заново встал пресловутый «квартирный вопрос», когда просвещенные люди стали называть себя «средним классом» — тогда Булгакова прочли заново.
Булгаков описал межвоенное время, время растерянного стяжательства, торопливого воровства, мелкое суетливое обывательское время, которое подготовило страшную бойню. Дивизии, созданные из этих самых булга-ковских управдомов, журналистов и карманников, прошлись по Европе, убивая и калеча все вокруг, — Булгаков описал то, как варится зелье будущей войны, как подготавливаются рекруты для бойни. Все эти бунши и шариковы, милославские и ликоспасовы, семплеяровы и латунские вскоре сделались не карикатурными, но по настоящему страшными — прежде они крали, потом принялись убивать. Читая Булгакова, мы видим, как у обывателя формируется психология гегемона: пройдет каких-нибудь пять лет — и интернациональный «присып-кин» (тот самый герой пьесы «Клоп», которого Булгаков и прочил в могильщики себе и Маяковскому) водрузит свой сапог на тело Европы. И случится так отнюдь не потому, что разгулялась ненавидимая Булгаковым народная стихия, — нет, этих присыпкиных поведут в бой генералы и прокураторы, и дирижировать войной станет Сатана. Впрочем, Булгаков так далеко не заглядывал — ему хватало его сегодняшней беды, довольно было драмы одиночки, потерявшегося в суете, обкраденного и оболганного. Он умудрился дожить до начала мировой войны — и не написать о ней; все, что он хотел сказать, относилось именно к периоду межвоенному.
Европейских авторов, писавших в то же самое межвоенное время, называют писателями «потерянного поколения» — они описывали растерянных, не нашедших себе места в новой жизни героев. Писателем русского «потерянного поколения» был Булгаков. Его роман в большей степени родствен «Триумфальной арке» Ремарка и «Смерти героя» Олдингтона, нежели сочинениям современных ему советских беллетристов. Потому Михаил Афанасьевич и оказался несвоевременным и устаревшим — ровно по той же самой причине, по какой герои «потерянного поколения» не могли встроиться в современный им капиталистический быт. Потерянный герой Булгакова — совсем как герой его западных коллег — тоже офицер, просто он пришел не с Первой мировой, а с Гражданской войны. Как и герои западных книг, герой Булгакова смотрит вокруг — и не понимает, почему все граждане так буйно веселятся, зачем так много пьют, отчего так самозабвенно врут, по какой причине так отчаянно воруют. Миром овладела лихорадочная суета — и нормальному человеку в ней нет места. И Ол-дингтон, и Ремарк, и Хемингуэй пережили Вторую мировую и сумели увидеть то, к чему вело лихорадочное стяжательство тридцатых годов, как именно оболванили обывателя, как «квартирный вопрос» нашел свое разрешение в окопе и камере. То время, которое мы проживаем сейчас, и тот современный обыватель, который отстаивает сегодня свои акции и квадратные метры, сделали Булгакова актуальным заново, — но что еще важнее, вновь актуальным стал исторический закон, рекрутирующий обывателя в солдата. Случилось так, что всю жизнь писатель размышлял над одной темой, писал одну книгу — а попутно, против воли, написал и другую. Булгаков описывал трагедию художника, зажатого между властью и толпой, — но, силой вещей, ему выпало написать трагедию общества, которое власть постепенно доводит до скотского состояния, чтобы потом было легче отправить его на убой. В этом последнем акте трагедии уже не поможет ни мудрый офицер госбезопасности, ни профессор-идеалист, и уж тем более не поможет романтический Сатана.