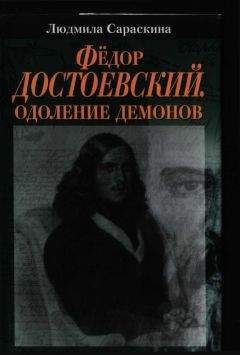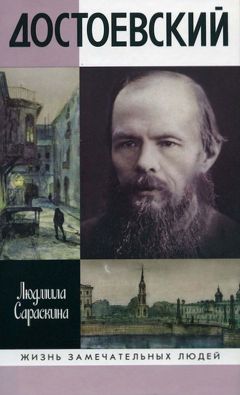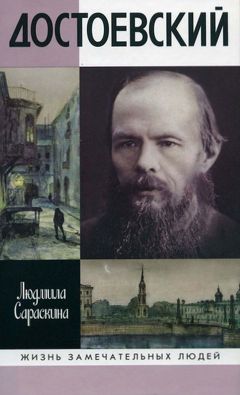Десять лет спустя, в посмертных воспоминаниях о Достоевском, Вс. С. Соловьев, ставший к тому времени известным историческим романистом, вспоминал, как он, взволнованный и счастливый, не спал всю ночь, как едва дождался вечера 2 января, чтобы ехать к учителю: «Я замирал от восторга и волновался, как страстный любовник, которому назначено первое свидание»[299]. Он вспоминал, как нашел дом, как позвонил в дверь, как в бедной угловой комнатке с старой и дешевой мебелью увидел своего кумира.
«Я назвал себя. Достоевский ласково, добродушно улыбаясь, крепко сжал мою руку и тихим, несколько глухим голосом сказал:
— Ну, поговорим…
…Через несколько минут моего смущения как не бывало. Мы встретились, будто старые и близкие знакомые после непродолжительной разлуки»[300].
«Я не могу вас любить, Шатов», — холодно выговаривал своему ученику герой романа. Молчаливым и до крайности сдержанным запечатлен был в памяти романиста незабываемый прототип героя. Но сам романист, проживший и выстрадавший фантастические судьбы и ученика, и учителя, и героя, и прототипа, в своей реальной жизни откликался на любовь с такой благодарностью, открывал сердце с такой готовностью, стремился приблизить полюбившегося человека с таким бескорыстием — и так сильно способен был привязаться сам…
«Я спешил к нему в каждую свободную минуту, и если мы не виделись с ним в продолжение недели, то он уж и пенял мне… — писал Вс. С. Соловьев. — Он говорил с таким горячим убеждением, так вдохновенно и в то же время таким пророческим тоном, что очень часто я начинал и сам ощущать восторженный трепет, жадно следил за его мечтами и образами и своими вопросами, вставками подливал жару в его фантазию. После двух часов подобной беседы я часто выходил от него с потрясенными нервами, в лихорадке. Это было то же самое, что и в те годы, когда, еще не зная его, я зачитывался его романами. Это было какое‑то мучительное, сладкое опьянение, прием своего рода гашиша»[301].
При всей своей восторженности новый друг Достоевского ничуть не преувеличивал их взаимного увлечения: уже в конце января 1873 года, меньше чем через месяц после знакомства, писатель просил свою московскую племянницу Сонечку принять молодого человека как родного. «Я с ним недавно познакомился и при таких особенных обстоятельствах, что не мог не полюбить его сразу. Его прошу я побывать у Вас и уговорить Вас приготовить ко времени его отъезда из Москвы письмо ко мне подлиннее и посердечнее. Люблю Вас, милый инок мой Соня, так, как моих детей, и еще, может быть, немного более… Если б Всев. Соловьев был из обыкновенных моих знакомых, я бы к Вам не прислал его лично. Он довольно теплая душа».
VIII
В те самые дни декабря — января, когда так романтично и стремительно складывалась дружба Достоевского с начинающим литератором, еще одна молодая душа с восторгом и благоговением внимала любимому писателю. Корректор типографии, в которой печатался «Гражданин», двадцатитрехлетняя Варвара Васильевна Тимофеева, тридцать лет спустя вспоминала о своих встречах с редактором журнала как о «редком счастье», выпавшем ей на долю: «…в течение целого года не только часто видеть и слышать Федора Михайловича Достоевского, но и работать с ним вместе за одним и тем же столом, при свете одной и той же типографской лампы»[302]. Конечно, мемуары воспоминательницы были написаны тогда, когда значение Достоевского давно перестало быть величиной переменной и могли — вольно или невольно — утерять дневниковую достоверность. Но мемуаристка утверждала, что обычно, придя домой после многочасового сидения над корректурами, всегда тут же записывала и содержание бесед с Достоевским, и свои собственные переживания…
Странное это было сотрудничество — за одним столом и при одной лампе. С журналом «Гражданин» В. В. Тимофееву связывала, по ее словам, «только необходимость в заработке», так понятная Достоевскому; постоянная же и самостоятельная работа у нее была в «Искре», где молодая журналистка вела бытовую хронику. В те самые месяцы, когда как корректор «Гражданина» она правила статьи Достоевского из «Дневника писателя», в ее «родном» журнале культивировались не только другие мысли и другие взгляды, но и враждебная, оскорбительная неприязнь к лагерю «Гражданина» вообще и к Достоевскому, писателю и публицисту, в частности.
Если в «своре прогресса», о которой, сочувствуя Достоевскому, писал Майков, были свои вожаки и свои рядовые, то, бесспорно, «Искра» и ее сотрудники занимали позиции далеко впереди прогресса. Закрытый в конце 1873 года за «превратные и совершенно неуместные суждения о правительственной власти», сатирический журнал радикального революционно- демократического толка в первые месяцы года, совпавшие с выходом «Бесов» и дебютом «Дневника писателя», казалось, поставил своей целью раз и навсегда покончить с «помешанным» автором «контрреволюционных» сочинений. «Столпником всероссийского застоя» называли Достоевского сотрудники «Искры», писавшие о нем чаще всего анонимно (исключение составлял лишь Д. Д. Минаев); и наверняка Тимофеева хорошо знала, кто скрывается за анонимной статьей, утверждавшей, что «Бесы» оставляют такое же скорбное впечатление, как «посещение дома умалишенных»[303]. В фельетонах «Искры» сюжет романа («Оборотни») карикатурно изображался как примитивное и вульгарное чтиво («духовидцы и «красные» мазурики, фурьеризм и синильная кислота, прокламации, револьверы и доносы, Женева и «Малинник», принципы 1789 года и грабеж во время пропаганды, мохнатые люди и девственницы, развращенные духом. Миллион действующих лиц и поголовное истребление их в конце романа…»[304]), а «Дневник писателя» пародировался «Дневником прохожего», в котором некий надворный советник Девушкин жаловался, что, читая «Бесов», ничего не понимает. «Ведь простой роман, кажется… слова все понимаю в отдельности, а к чему вот все сочинение клонится, хоть гром меня разрази — не постигаю»[305].
Должно быть, Достоевский предполагал, что типографский корректор, с которым ему приходилось работать по «Гражданину», отнюдь не разделяет его настроений; Тимофеева не скрыла в своих мемуарах, что самый дух «Дневника» был в те времена ей чужд и антипатичен. «В либеральных литературных кружках и в среде учащейся молодежи, где были у меня кое — какие знакомства, его бесцеремонно называли «свихнувшимся», а в деликатной форме — «мистиком», «ненормальным» (что, по тогдашним понятиям, было одно и то же). Это было время только что замолкнувшего процесса Нечаева и романа «Бесы» в «Русском вестнике». Мы, молодежь, читали речи знаменитых защитников в «Голосе» и «С. — Петербургских ведомостях», и новый роман Достоевского казался нам тогда уродливой карикатурой, кошмаром мистических экстазов и психопатии… А то, что автор «Бесов» принял редакторство в «Гражданине», окончательно восстановило против него многих из прежних его почитателей и друзей».
Ничего хорошего ни это знакомство, ни это сотрудничество как будто не сулили. Когда Тимофеева впервые увидела в типографской конторе невысокого господина в меховом пальто и калошах, услышала его тихий, глухой голос и, подняв глаза, встретила «неподвижный, тяжелый, точно неприязненный взгляд», она потупилась и старалась больше не смотреть на угрюмого человека с землистым лицом и бескровными губами, напомнившего ей солдат из разжалованных… К тому же первый визит Достоевского в типографию был откомментирован ее владельцем, обруселым немцем А. И. Траншелем, в лучших тогдашних либеральных традициях. «Знаете, кто это? — сказал мне Траншель, когда захлопнулась дверь. — Новый редактор «Гражданина», знаменитый ваш Достоевский! Этакая гниль! — вставил он с брезгливой гримасой». И Тимофеева, для которой слова «литература», «писатель» означали тогда «жизнь, мысль, свет, упование», глубоко возмутившаяся «грубым, невежественным кощунством», не посмела что‑либо сказать по этому поводу своему прогрессивному хозяину.
И все‑таки история молодой литсотрудницы Достоевского, если судить по ее мемуарам, развивалась в течение всего 1873 года как бы по нотам ее любимого «Преступления и наказания» — как романическая история постепенного обновления и перерождения человека, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью. И конечно, это была очень женская история.
Вначале были ожидания — ведь «Достоевский так волшебно и сладостно расширял нам сердце и мысли»; ожидание рождало надежды. «Кто знает, думалось мне теперь, под впечатлением первой встречи с знаменитым писателем, может быть, именно он вывел нас всех из нормы и до того пронизал нам душу любовною жалостью, состраданием ко всему страдающему, что нам сделалось тесно в семье, и все больное, забитое и приниженное стало нам близко и родственно, как свое!» В его присутствии, пока оно не стало привычным, она чувствовала «неестественно гнетущую робость», «бессознательное смущение»; она не смела шевельнуться и свободно вздохнуть, боялась оглянуться в его сторону. «Все время, пока он сидел, мне чувствовалось что‑то строгое, властное, высшее, какой‑то контроль или суд над всем моим существом».