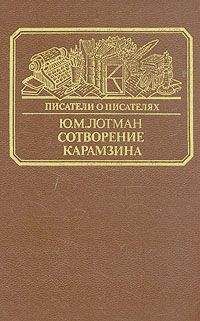Почему? Почему нет чувства победы?
Карамзин умер, не дожив до 60 лет. Конечно, в жизни его было много горестей и еще больше непрерывного труда. Конечно, потрясение и простуда, которых ему стоил день 14 декабря 1825 года, сыграли свою роль. И все же нельзя отделаться от мысли, что главная причина его ранней смерти коренилась глубже.
Карамзин был труженик и ценил свое здоровье как условие, обеспечивающее возможность напряженной работы. Он следил за собой, как спортсмен, и вел размеренный образ жизни. Живший с ним долгие годы в одном доме воспитанник и друг Карамзина П. А. Вяземский вспоминал: «Карамзин был очень воздержан в еде и питии. Впрочем, таковым был он и во всем в жизни материальной и умственной: он ни в какие крайности не вдавался; у него была во всем своя прирожденная и благоприобретенная диетика. Он вставал довольно рано, натощак ходил гулять пешком или ездил верхом в какую пору года ни было бы и в какую бы ни было погоду. Возвратясь выпивал две чашки кофе, за ним выкуривал трубку табаку (кажется, обыкновенного кнастера) и садился вплоть до обеда за работу, которая для него была также пища и духовная и насущный хлеб. За обедом начинал он с вареного риса, которого тарелка стояла всегда у прибора его, и часто смешивал его с супом. За обедом выпивал рюмку портвейна и стакан пива, а стакан этот был выделан из дерева горькой Квассии. Вечером, около 12-ти часов, съедал он непременно два печеных яблока. Весь этот порядок соблюдался строго и нерушимо, и преимущественно с гигиеническою целью: он берег здоровье свое и наблюдал за ним не из одного опасения болезней и страданий, а как за орудием, необходимым для беспрепятственного и свободного труда» [530].
Почему же здоровье Карамзина так скоро оказалось безнадежно подорванным?
Последние десять лет жизнь Карамзина протекала внешне в обстановке идиллии: любящая семья, круг друзей, работа, уважение, небольшой, но твердый материальный достаток — плод непрерывного труда. И все же, когда читаешь лист за листом документы, письма, воспоминания, вдруг начинает веять ужасом. Гостиная уютно освещена, но за окнами — тьма. Под тонкой корочкой бытового благополучия кипит мрак.
Карамзин построил свою жизнь так, чтобы жить, ни на что не надеясь. Жизнь без надежды…
В 1794 году он призывал Дмитриева жить «без страха и надежды». В последнем номере «Московского журнала» Карамзин поместил переводной отрывок «Надежда»: «Жизнь есть обман — счастлив тот, кто обманывается приятнейшим образом. Надежда! Ты дщерь неба? сопутница горестных? утешительница несчастных? Нет! ты обманщица!» «Наконец — о блаженная минута! — являются душе страдальца картины радости и счастья; образ за образом пролетает мимо очей его — один другого светлее, один другого радостнее — какое прекрасное смешение цветов! Как все живо, естественно, правдоподобно!»
«…Но се приближается угрюмая существенность с медным жезлом своим и привидение скрывается — густая тьма поглощает свет и все прелестные образы…….. и только одни слезы в очах остаются» (МЖ, 1792, VIII, 12, 206–207).
Но тогда это была литература — немного игра, чуть-чуть кокетство. Потом это сделалось основной мыслью жизни.
Через всю жизнь Карамзин пронес один особенно ему близкий образ — образ Дон Кихота. В начале «Писем русского путешественника» он назвал себя «рыцарем веселого образа», вспоминая и героя Сервантеса, и Стерна, который также сравнивал себя с Дон Кихотом [531]. В дальнейшем он вспоминал этого героя неоднократно. 17 августа 1793 года он пишет Дмитриеву: «Назови меня Дон Кишотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю — человечество!» [532] А 12 апреля 1820 года, при известии о революции в Испании, писал Вяземскому: «История Гишпании очень любопытна. Боюсь фраз и крови. Конституция кортесов есть чистая демократия, a quelque chose pres [533]. Если они устроят государство, то обещаюсь итти пешком в Мадрит, а на дорогу возьму Дон Кишота или Кихота» [534].
Кстати, когда Карамзин называл сборник своих произведений «Мои безделки», он, конечно, помнил беседу Дон-Кихота в барселонской типографии:
«— Как называется эта книга? — осведомился Дон Кихот. Переводчик же ему ответил:
— Сеньор, итальянское заглавие этой книги — La Bagatelle.
— А чему соответствует на испанском языке слово la bagatelle? — спросил Дон Кихот.
— La bagatelle, — пояснил переводчик, — в переводе на испанский язык значит безделки, но, несмотря на скромное свое заглавие, книга эта содержит и заключает в себе полезные и важные вещи».
Образ Дон Кихота принадлежит к тем персонажам мировой литературы, которые обладают способностью неожиданно выглядывать из-за плеча совсем далеких от них, казалось бы, людей.
Разговор Иешуа и Пилата в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»:
— А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?
— Всех, — ответил арестант, — злых людей нет на свете. <…>
— А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем, — он — добрый?
— Да, — ответил арестант, — он, правда, несчастливый человек. <…> Если бы с ним поговорить, — вдруг мечтательно сказал арестант, — я уверен, что он резко изменился бы» [535].
А вот эпизод из «Дон Кихота»: принятый как странствующий рыцарь в замке герцога, Дон Кихот подвергся оскорблениям со стороны священника, который называет его «пустой головой» и советует выбросить вздор из головы и убираться домой. На поток брани герой Сервантеса отвечает: «Я не должен видеть, да и не вижу ничего обидного в словах этого доброго человека [536]. Единственно, о чем я жалею, это что он не побыл с нами, — я бы ему доказал, что он ошибается» [537].
Булгаков любил роман Сервантеса, читал его в подлиннике, работал над сценарием по его тексту и, конечно, не случайно придал своему Иешуа черты ламанчского рыцаря.
Дон Кихот — воплощенная вера, на вере в торжество добра строится вся его жизнь. На вере и надежде стоит и Иешуа:
«— И настанет царство истины?
— Настанет, игемон, — убежденно ответил Иешуа.
— Оно никогда не настанет! — вдруг закричал Пилат…»
Когда у Дон Кихота отняли надежду, он умер.
Карамзин был Дон Кихот, утративший надежду. Из трех христианских добродетелей он был щедро наделен любовью, принуждал себя иметь веру, но надежда его покинула на середине пути. Семья, работа, размеренный ритм жизни — все это была его крепость, но и его скала Святой Елены, стена, за которой он и спасался, и погибал.
Он был обречен, и это разрушало его здоровье.
Вокруг него царила атмосфера доброты. Но от этой доброты на энтузиастов, на тех, кто хотел действовать и предпочитал не углубляться во вчерашний день, чтобы не слишком ясно представлять себе завтрашний, веяло холодом.
Несчастью верная сестра,
Надежда… —
сказал Пушкин. Карамзин никогда не повторил бы этих строк: «Несчастью верные сестры — работа, верность себе, чистая совесть, чувство собственного достоинства…»
Незадолго до смерти Карамзин записал уже цитированные нами горькие слова о том, что историей управляет не разум философа и даже не разум государя, а голая сила — «палица, а не книга». Правда, он сделал оговорку о том, что палицу в руки силе влагает бог, но сам в это вряд ли убежденно верил: ему доводилось видеть палицу в слишком многих руках, видеть, как она переходит из одного лагеря в другой, чтобы быть уверенным в том, что ею управляет высшая мудрость. В письмах к Дмитриеву и в других известных нам документах последних десятилетий всякий раз, когда в душе его возникает возмущение, несогласие, когда исторические события ставят его в недоумение или вызывают глубокую грусть, он гасит эти чувства ссылкой на загадочную волю Провидения. Но душа и ум его были чужды и наивной вере отцов, и мистицизму как Кутузова, так и Жуковского. Он был и оставался деистом и скептиком XVIII века, но скептиком, утратившим веру даже в скептицизм, сомневающимся даже в сомнении. Именно этим чувством продиктованы строки, вышедшие из-под пера, начертавшего некогда в предисловии к «Истории государства Российского», что «правители, законодатели действуют по указаниям истории».
«Аристократы! вы доказываете, что вам надобно быть сильными и богатыми в утешение слабых и бедных; но сделайте же для них слабость и бедность наслаждением! Ничего нельзя доказать против чувства: нельзя уверить голодного в пользе голода. Дайте нам чувство, а не теорию. — Речи и книги Аристократов убеждают Аристократов; а другие смотря на их великолепие, скрежещут зубами, но молчат или не действуют, пока обузданы законом или силою: вот неоспоримое доказательство в пользу Аристократии: палица, а не книга! — И так сила выше всего? Да, всего, кроме бога, дающего силу!