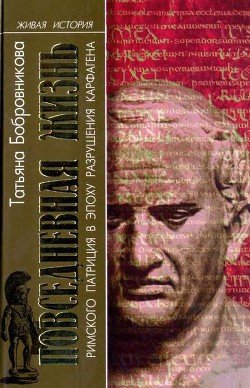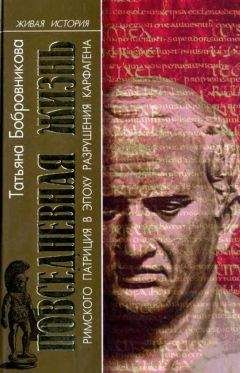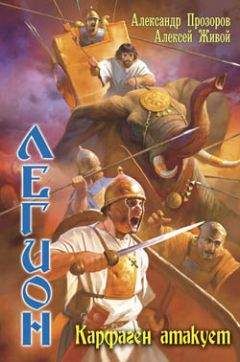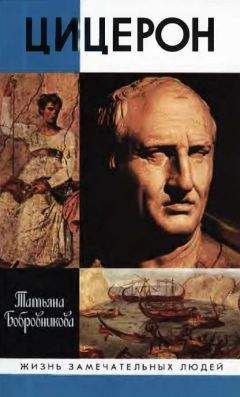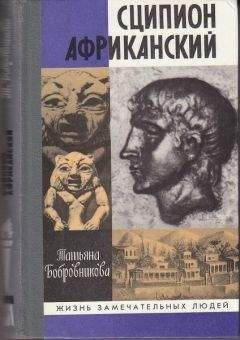Эти слова показывают, что он думал в эту минуту только о мести. Но факт остается фактом. Он, человек благородный и чистый, который, как шекспировский Брут, готов был скорее чеканить деньги из собственного сердца и лить в драхмы свою кровь, чем вырывать их из рук крестьян, для достижения своей цели пожертвовал жителями провинции и обрек их на бесконечные муки и страдания.
Вот как описывает действия Гая один античный историк из противоположного лагеря:
«Гракх произносил перед народом речи, призывая к свержению аристократии и установлению демократии. Он достиг расположения всех классов общества… Каждого он подкупал надеждами, и каждый готов был претерпеть за его законы опасности, как за свое добро. Отняв судебную власть у сената и назначив судьями всадников, он позволил менее достойному сословию распоряжаться лучшими и разрушил прежде бывшее согласие между сенаторами и всадниками… а толпу сделал грозной силой против обоих сословий и всеобщим разладом укрепил себе власть; он опустошил государственную казну неуместными и позорными расходами и подачками. Все это сделало его объектом всеобщего восторженного внимания. Бросив с презрением провинции в жертву наглости и алчности… он возбудил справедливую ненависть подданных против власти. Своими законами он уничтожил старинную воинскую дисциплину и внес в государство мятеж и анархию. Совершая государственный переворот, он с презрением противодействовал магистратам. Из-за этого происходили гибельное беззаконие и полное разрушение города» (Diod., XXV).
Цицерон же прямо пишет, что Гай «ниспроверг весь государственный строй» (Leg., II, 20). «В этом вихре не оставалось ничего незыблемого, ничего прочного, ничего устойчивого», — говорит о законах Гая Веллей Патеркул (Veil., II, 6). Так говорили противники Гракха, оптиматы. Но вот Саллюстий, самый ярый демократ, приводит речь уже знакомого нам Меммия, отчаянного трибуна-популяра, речь, в которой тот громит знать и призывает народ отомстить за Гракхов, которые погибли, кстати, на глазах этого Меммия. И вот трибун говорит:
«Тиберий и Гай Гракхи… начали призывать народ к освобождению и раскрывать преступления немногих (то есть сената, аристократии. — Т. Б.)… Конечно, в своей жажде победы Гракхи не проявили достаточной умеренности» (lug., 42, 1–2). Значит, даже популяры должны были сознаться, что в дни торжества Гай не знал меры.
Молодой реформатор провел и еще один любопытный закон. Он начал строить в Италии большие дороги, дело, казалось бы, совершенно несвойственное трибунам. Руководил он всем сам. Дороги, как и все, что он делал, были великолепны. Он заботился одновременно и об удобстве, и о красоте. «Дороги проводились совершенно прямые. Их мостили тесаным камнем либо же покрывали слоем плотно убитого песка. Там, где путь пересекали ручьи или овраги, перебрасывались мосты и выводились насыпи, а потом уровни по обеим сторонам полностью сравнивались, так что вся работа в целом была радостью для глаза. Кроме того, Гай размерил каждую дорогу от начала до конца по милям… и отметил расстояние каменными столбами. Поближе один к другому были расставлены по обе стороны дороги еще камни, чтобы всадники могли садиться с них на коня, не нуждаясь в стремянном» (Plut. Ti. Gr., 28).
Казалось почти чудом, что трибун, законы которого лились непрерывным потоком, находил еще время столько возиться с дорогами. Но «во главе всех начинаний он становился сам, нисколько не утомляясь ни от важности трудов, ни от их многочисленности, но каждое дело исполнял с такой быстротой и тщательностью, словно оно было единственным, и даже злейшие враги, ненавидевшие и боявшиеся его, дивились целеустремленности и успехам Гая Гракха» (Plut. Ti. Gr., 27).
Всеми этими мерами Гай достиг поразительных результатов. Он вырвал деньги из рук сената. Он выдавал хлеб народу из казны, он платил многочисленным рабочим и мастеровым, которые его обожали. «Гракх стал проводить по Италии большие дороги, привлек на свою сторону массы подрядчиков и ремесленников, готовых исполнять все его приказания» (Арр. В. C., I, 23). Теперь с утра до вечера он был окружен «подрядчиками, мастеровыми, послами, должностными лицами, воинами и учеными» (Plut. Ti. Gr., 27). Он говорил с ними величественно и милостиво, как добрый владыка со своими подданными. И народ, по словам Плутарха, восхищался им и поражался его любезности, которая явно изобличала клеветников, называвших его «страшным, грубым, жестоким» (Plut. Ti. Gr., 27). Какая странная фраза! Неужели Гай не мог поговорить вежливо и приветливо с кем-нибудь, не вызывая удивления?! Какова же в таком случае была его репутация!
Из слов Плутарха видно другое: Гай взял уже в свои руки казну, внешнюю политику — он ведь принимал послов! — он решал вопросы военного дела, и сами магистраты уже склонялись перед этим всесильным человеком.
Гай давно уже провел закон, по которому можно было быть трибуном сколько угодно раз. Он был трибуном второй срок и тут приступил к осуществлению своего заветного плана. Если угодно, это была вторая революция — первая превратила Рим в демократию, вторая должна была сделать его из города страной. Он предложил дать права гражданства латинянам, вероятно, желая впоследствии распространить их на всех союзников (App. I, 23; Veil., II, 6). Новый законопроект возмутил многих. Сама мысль поставить на одну доску римлянина и италика была невыносима для римской гордости. И, главное, по иронии судьбы реформатор натолкнулся главным образом на сопротивление той самой толпы, которую сделал грозной силой. Она вовсе не намерена была делиться выгодами своего положения с кем бы то ни было [190].
Гай видел всеобщее недовольство, видел, что авторитет его пошатнулся, и поспешил взять свой законопроект назад. Первая его неудача!
В это время случилось одно, казалось бы, небольшое событие, которое имело, однако, роковые последствия. Гай начал активно выводить колонии [191]. И вот один трибун предложил основать колонию на территории бывшего Карфагенского государства, причем основателем ее должен был быть сам Гракх. Разумеется, Гаю ничего не стоило отказаться и поручить это дело кому-нибудь из своих друзей, тем более что он как трибун не должен был покидать границ города Рима. Но он с радостью ухватился за это предложение. Во-первых, он любил все делать сам. Во-вторых, он так смертельно устал и издергался за эти два года, что мечтал на несколько дней покинуть Рим. Наконец, была у него еще одна тайная цель.
Итак, Гай прибыл в Африку. Страна эта, разумеется, велика, и он мог основать будущий город где угодно. Но он выбрал именно то место, где некогда стоял Карфаген, — то самое место, над которым Сципион 24 года назад произнес страшное заклятие, обрекая его в удел подземным богам и духам (Арр. В. C., 1,24). Несомненно, Гай сделал это, чтобы насмеяться над памятью человека, который публично заявил, что Тиберий Гракх убит законно. Последствия его поступка были поистине ужасны. «Божество, как сообщают, всячески противилось новому основанию Карфагена… Ветер рвал главное знамя из рук знаменосца с такой силой, что сломал древко, смерч разметал жертвы, лежавшие на алтаре» (Plut. Ti. Gr., 32).
Быть может, в этом и не стоит видеть чуда. Заставь людей вступить на территорию, которая, по их глубокому убеждению, занята духами и привидениями, причем эти люди уверены, что посягают на священные права этих чудовищ, что их каждую минуту ждет месть разъяренных демонов. К чему все это приведет? Они будут вздрагивать от каждого шороха, в кустах им будут чудиться злобные лица, все будет валиться у них из рук, они будут пугаться собственной тени. Именно это и случилось с теми, кто находился с Гракхом. Но Гая невозможно было ничем остановить. Ни вихри, ни мрачные знамения не могли сломать его упорства. Он заставил дрожавших от ужаса людей вбить колышки, чтобы отметить границы будущего города. Но ночью явились волки и вытащили все столбики (Арр. В. C., 1,24; Plut. Ti. Gr., 32).