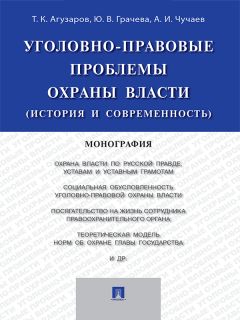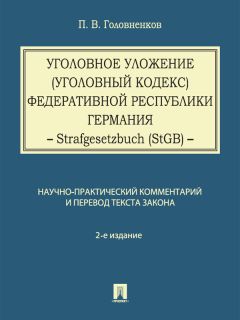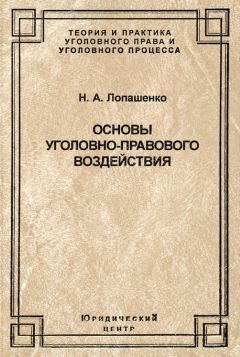Кроме того, указанное действие («прихаживание») совершается незаконно; последнее обстоятельство характеризуется словом «самовольством», что тогда означало любое действие, совершенное вопреки имеющемуся официальному запрету (например, «указу великого государя противным не быть и самовольством не жить»).
Отличие посягательства на жизнь и здоровье государя заключается в содержании умысла виновных. При совершении деяния, предусмотренного ст. 1 Уложения, деяние непосредственно посягает на жизнь или здоровье представителя высшей государственной власти. При «скопе и заговоре», когда оно направлено против царского величества, умысел не имеет такого содержания: толпа стремится воздействовать на верховную власть путем угрозы или насилия, чтобы навязать ей свои требования или воспрепятствовать осуществлению определенных действий[242].
Пожалуй, сложнее провести границу, отделяющую «скоп и заговор» от измены. В литературе по этому поводу высказаны различные мнения. Например, М. Ф. Владимирский-Буданов считал, что преступление, заключающее в себе «скоп и заговор», есть не что иное, как «верховная измена», понятие которой распространено «на восстание против провинциальных органов власти»[243]. Не соглашаясь с таким толкованием закона, Г. Г. Тельберг пишет: «В измене умысел складывается из намерения совершить такое действие, которое, принося ущерб интересам Московского государства, служило бы к прямой пользе иной государственной власти, а в “скопе и заговоре” сознанию действующего субъекта совершенно чужда идея об интересах и пользе какой-либо другой государственной власти… В тягчайших видах измены умысел преступника направлен на отнятие верховной власти у царствующего государя, т. е. либо на низвержение его с престола, либо на умаление территории, ему подвластной; а в “скопе и заговоре” умысел не идет дальше стремления воздействовать на власть, чтобы добиться от нее определенного решения; поэтому “скоп и заговор”, удачно доведенный до конца, оставляет в неприкосновенности всю полноту верховной власти, не ведет ни к смене династии, ни к умалению территории. Можно было бы сказать, что в “измене” объектом является “держава царского величества”, т. е. самое бытие его власти, а в “скопе и заговоре” – “указ государев”, т. е. определенное предписание государственной власти, ничуть не затрагивающее вопроса о ее бытии»[244].
Следует сказать, что судебная практика того времени, с одной стороны, различало измену и «скоп и заговор», с другой стороны, не довольствуясь характеристиками Уложения, выработала особую юридическую формулу – «бунт против великого государя». Иногда для обозначения «скопа и заговора» использовался термин «мятеж». Если против первого словосочетания в целом не было возражений (вероятно, это объяснялось тем, что в Уложении, строго говоря, указывался скорее способ совершения деяния, чем существо преступления), то применение термина «мятеж» вызывало критику, так как он по своему содержанию был более широк, чем «скоп и заговор», предполагал всякое народное движение, в том числе направленное на свержение верховной власти[245].
Глава III «О государеве дворе, чтоб на государеве дворе ни от кого никакова бесчиньства и брани не было», по сути, являясь как бы логическим продолжением гл. II Соборного уложения, формально предусматривает нормы, целью которых является охрана порядка на царском дворе, и таким образом отчасти объединяет преступления против порядка управления. Между тем системный анализ ряда положений Уложения, в частности содержащихся в гл. X «О суде», дает основание заключить, что по охраняемому объекту деяния, описанные в гл. III, правильнее относить к преступлениям, посягающим на основы государственной власти[246].
В период становления абсолютизма в России было признано, что нормы Соборного уложения содержат недостаточно точное описание государственных преступлений, неполно определяют применение формулы «государево слово и дело». В специальном указе Сената от января 1714 г. был истолкован ее смысл. В нем говорилось: «Кто напишет или словесно скажет за собой государево слово или дело, и тем людям велено писать и сказывать в таких делах, которые касаютца о здравии царского величества или высокомонаршеской чести или ведают бунт или измену»[247].
Именным царским указом от 25 января 1715 г. определялись как государственные преступления, во-первых, всякий злой умысел против персоны его величества или измена, во-вторых, возмущение и бунт. К наиболее опасным преступлениям против власти было отнесено похищение казны[248].
Кроме того, указ требовал доносить о всяком злом умысле самому государю или у него «на дворе, без всякого страха, ибо доносчикам, как примеры показывают, всегда было жалованье, а о протчих делах доносить, кому те дела поручены, а писем не подметывать»[249].
По указу от 1718 г. в качестве «государева слова и дела» стали рассматриваться только всякий злой умысел против персоны его величества, возмущение и бунт[250].
Нормы гл. VII «О службе всяких ратных людей Московского государства» в целом предусматривали обеспечение несения военной службы. Однако в рамках этого некоторые из них регулировали ответственность за посягательства на честь и достоинство бояр и воевод и интересы правосудия, совершаемые ратниками. В частности, согласно ст. 12 «а будет кто на бояр и на воевод в посулех[251] учнет бити челом государю ложно, затеяв напрасно, и сыщется про то допряма, и тем за боярское и за воеводъское бесчестие и за ложное их челобитье чинити жестокое же наказание, что государь укажет»[252]. Выражаясь современным языком, устанавливалась ответственность за ложный донос царю по обвинению бояр и воевод во взяточничестве.
Глава X «О суде», пожалуй, одна из самых объемных, объединяет 287 статей из 967 статей Соборного уложения[253].
Как уже указывалось, органы административного управления и суд в рассматриваемый период времени (середина XVII в.) институционально не выделялись, правосудие осуществлялось органами власти и управления (царем, Боярской думой, приказами), ими же приводились в исполнение судебные решения. Поэтому на данном этапе развития русского государства и права не было оснований для обособления таких объектов уголовно-правовой охраны, как интересы правосудия и порядок управления. В дореволюционной литературе преступления, консолидированные в указанной главе, предлагалось считать направленными против порядка управления и суда[254].
Статьей 27 гл. X Уложения открывается большой раздел норм об оскорблении представителей духовенства (в гл. I идет речь об оскорблении церкви и религии). В ней предусмотрена ответственность за наиболее тяжкое преступление из числа указанных – оскорбление патриарха, совершенное представителями верхушки господствующего класса (специальной нормы об оскорблении царя Уложение не содержало; подобные деяния карались в соответствии с нормами гл. II). В других статьях (28–82) регламентировалась ответственность за оскорбление духовенства. Она зависела от разных обстоятельств, в том числе места в иерархии русской православной церкви, географического положения монастыря, его значения и т. д.
Столь большой законодательный массив, посвященный защите доброго имени служителей церкви, вероятно, отражает традицию, заложенную еще Русской Правдой, в которой кодекс чести занимал ее значительную часть. Этим же можно объяснить расположение законодательного материала в Уложении в целом: вначале указаны нормы об ответственности за оскорбление, а затем – иных посягательствах на личность потерпевшего.
Представители светской власти в качестве потерпевших выступали в двух случаях: а) при совершении в отношении них преступлений по личным мотивам (например, «а будет учинитца ссора межь бояр и окольничьих и думных людей, и кто из них кого обесчестит непригожим словом, и на тех по суду или по сыску, править бесчестье по государевому указу» – ст. 90); в этом случае ответственность дифференцировалась в зависимости от статуса как оскорбленного, так и оскорбителя; б) при совершении в отношении них преступления в связи с выполнением ими служебных обязанностей.
Так, в ст. 92 Уложения говорится: «А будет бояр и околничих и думных людей обесчестит кто словом гостиные и суконные и черных сотен и слобод тяглой человек, или стрелец, или казак, или пушкарь, или монастырской слуга, или иных чинов люди, кто ни будь, или холоп боярской, а по суду и по сыску сыщетца про то допряма, и их за боярское и околничих и думных людей бесчестье бить кнутом, да их же сажать в тюрьму на две недели». Данная норма защищала честь представителей власти, являющихся членами Боярской думы; этим объясняется и строгость санкции. Она особенно заметна при сравнении с санкцией нормы, предусмотренной ст. 93 Уложения, которой предусмотрена ответственность за нарушение чести и достоинства лиц, занимающих во властной вертикали более низкое место, – стольников, стряпчих, дьяков, подьячих и иных «всяких чинов людей, которые государевым денежным жалованьем верстаны». За совершение первого преступления полагались битье кнутом и двухнедельное тюремное заключение; за совершение второго – «бесчестье», т. е. денежное возмещение в пользу оскорбленного.