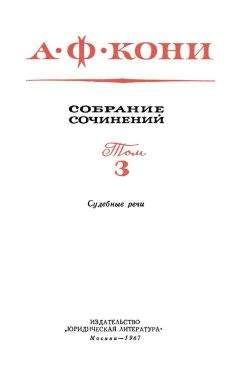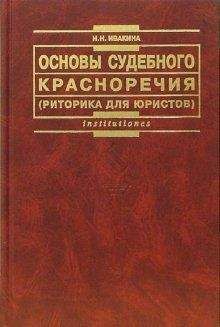Штраму тоже никому не было надобности. Этот человек, по своим свойствам, не мог ни с кем соперничать, никому не мог становиться на пути. Остается только третий повод убийства, который всего яснее вытекает из того, что сюртук покойного находится под трупом пустой, — а то, что в последнее время составляло, по-видимому, весь смысл существования Штрама, без чего он сам был немыслим, отсутствует: нет чеков, нет денег. Очевидно, убийство совершено из корысти. Для совершения такого убийства надо было знать, что у покойного были деньги. Это знали, конечно, те лица, которым он давал деньги в долг. Однако он давал их вне дома. Кто же в доме мог это знать? Конечно, не девица Френцель, не те студенты, которые прожили всего несколько дней и которым не было никакого дела до мрачного человека, сидевшего обыкновенно на чердаке или в задней комнате. Могли знать только домашние, близкие Штрама…
Посмотрим же на это семейство.
Прежде всего остановимся на личности Александра Штрама — характеристической и весьма интересной. Показаниями свидетелей, начиная от отечески добродушного и сочувственного к подсудимому показания свидетеля Бремера и кончая резким и кратким отзывом о неблаговидном его поведении свидетеля Толстолеса, личность Александра Штрама обрисовывается со всех сторон. Мы видим его молодым юношей, находящимся в ученьи, добрым, отличным и способным работником, несколько робким, боящимся пройти мимо комнаты, где лежит покойница; он нежен и сострадателен, правдив и работящ. Затем он кончает свою деятельность у Бремера и уходит от него; ему приходится столкнуться лицом к лицу со своею семьею — с матерью, съемщицею квартиры, где живет иногда бог знает какой народ, собравшийся отовсюду и со всякими целями. В столкновениях с этою не особенно хорошею средою заглушаются, сглаживаются некоторые нравственные начала, некоторые хорошие, честные привычки, принесенные от старого, честного Бремера. К нравственному беспорядку жизни присоединяются бедность, доходящая нередко до крайности, до вьюшек, вынимаемых хозяевами, требующими денег за квартиру, и холод в комнате, так как дрова дороги, а денег на покупку нет… А тут еще мать, постоянно ворчащая, упрекающая за неимение работы, и постоянно пьяная сестра. Обстановка крайне невеселая, безотрадная. От обстановки этой нужно куда-нибудь уйти, надо найти другую, более веселую компанию. И вот компания эта является. Мы видели ее, она выставила перед нами целый ряд своих представителей. Здесь являлся и бывший студент, принимающий под свое покровительство двух, по его словам, «развитых молодых людей» и дающий им аудиенции в кабаках до тех пор, пока «не иссякнут источники», как он сам выражаете». Пред нами и Скрыжаков, человек, имущий какую-то темную историю со стариком и который, когда приятель его Штрам задумывает дурное дело, идет рекомендовать его целовальнику, чтобы тот дал в долг водки «для куражу»; далее встречается еще более темная по своим занятиям личность, Русинский, настаивающий, чтобы Александр Штрам обзавелся любовницею, как обязательною принадлежностью всякого сочлена этой компании. Сначала, пока еще есть заработок, Штрам франтит, одевается чисто и держится несколько вдали от этой компании, но она затягивает его понемногу, приманивая женщинами и вином. Между тем, хозяин отказывает, да и работать не хочется — компания друзей все теснее окружает свою жертву, а постоянные свидания с ее представителями, конечно, не могут не оказать своего влияния на молодого человека. Подруга его сердца одевается изящно, фигурирует на балах у Марцинкевича; нужно стоять на одной доске с нею, нужно хорошо одеваться; на это нужны средства, а где их взять? Он видит, что Львов не работает, Скрыжаков и Русинский также не работают, а все они живут весело и беззаботно. Попросить у матери? Но она скажет — иди работать! И попрекнет ленью и праздностью… Да и, кроме того, дома голодно и холодно, перебиванье со дня на день и присутствие беспробудно пьяной сестры. Все это, взятое вместе, естественно, должно пробудить желание добыть средства и изменить всю обстановку. Но как изменить, когда хочется прохлаждаться с друзьями и подругами и не хочется идти работать?! И вот тут-то, в пьяной компании, сначала отдаленно, быть может, даже под влиянием рассказа о каком-нибудь процессе, является мысль, что есть богатый дядя, чего он живет «ни себе, ни другим», кабы умер… Уж не убить ли? И — вероятно под влиянием этого рокового внутреннего вопроса — высказывается предположение, как именно убить: разрезать на куски и разбросать. Конечно, это высказывается в виде шутки… Но шутка эта опасная — и раз брошенная мысль, попав на дурную почву, растет все более и более. А между тем, нищета усиливается, средств все нет, и вот, наконец наступает однажды такой день, такой момент, когда убить дядю представляется всего удобнее, когда при дяде есть деньги и когда в квартире нет жильцов, следовательно, нет посторонних лиц. Таковы те данные, которые заставляют окольными путями, как выражается один свидетель, подойти к заключению о виновности подсудимого Штрама вместе с тем к ответу на последний вопрос: кто совершил настоящее убийство? Но могут сказать, что таким образом приходится остановиться все-таки на одних предположениях: положим, у подсудимого могла быть мысль об убийстве, могла явиться удобная для осуществления этой мысли обстановка, в которой, по-видимому, и совершено преступление. но от этого еще далеко до совершения убийства именно им!
Дайте факты, дайте определенные, ясные данные! Данные эти есть: это чеки, с которыми арестован подсудимый; факт этот связывает все приведенные предположения крепкою связью. С чеками этими подсудимый арестован за бесписьменность и препровожден в Ревель, оттуда прислан обратно сюда, по требованию полиции, и здесь допрошен. Он дает три показания. С этими показаниями повторилось общее явление, свойственное всем делам, где собственное сознание является под влиянием косвенных улик. Сначала заподозренный сознается совсем неправильно; потом, когда улики группируются вокруг него, когда сила их растет с каждым днем, с каждым шагом следователя, обвиняемый подавляется этими уликами, ему кажется, что путь отступления для него отрезан, и он дает показание наиболее правдивое; но проходит несколько времени, он начинает обдумывать все сказанное им, видит, что дело не так страшно, каким показалось сначала, что против некоторых улик можно придумать опровержение, и тогда у него является третье сознание, сознание деланное, в котором он признается лишь в том, в чем нельзя не признаться.
Опыт, даваемый уголовною практикою, приводит к тому, что в большей части преступлений, в которых виновность преступника строится на косвенных доказательствах, на совокупности улик и лишь отчасти подкрепляется его собственным сознанием, это сознание несколько раз меняет свой объем и свою окраску. Подозреваемый сознается лишь в одном, в неизбежном, надеясь уйти от суда; обвиняемый сознается полнее, потому что надежда уйти от суда меркнет в его глазах; подсудимый, пройдя школу размышления, а иногда и советов товарищей по несчастию, снова выбрасывает из своего признания все то, что можно выбросить, все, к чему не. приросли твердо улики, ибо у него снова блестит надежда уйти уже не от суда, но от наказания…
Вот такое второе сознание в данном случае явилось после того, как было опровергнуто то, что говорил подсудимый об убийстве на чердаке гипсовым камнем. Под влиянием обнаруженных улик он дал второе показание, где объяснил, что убил дядю в комнате, в то время, когда мать стояла у окна, что с нею сделался обморок при виде убийства и что затем он старался скрыть следы преступления и воспользоваться его плодами, спрятав убитого дядю в сундук и перетащив его на чердак, а затем стараясь сбыть чеки. Здесь на суде является уже третье сознание: подсудимый видит, что ему нельзя не сознаться, что улики, собранные против него, слишком сильны, но под влиянием, быть может, благородного в своем источнике, чувства он хочет выгородить близких к нему людей, и прежде всего свою мать. По словам его, она не только не присутствовала при убийстве, но даже не знала о нем и узнала впервые только тогда, когда их перевозили из Ревеля, причем сказала сыну, что хочет страдать вместе с ним. В этом показании надо отделить истину от того, что является ложным. Истинно все то, что подтверждается теми объективными, внешними данными, о которых я говорил в начале речи и которые существуют независимо от собственных объяснений обвиняемых. Первая часть показания подсудимого, относящаяся к совершению убийства, действительно справедлива, но против второй его части можно очень многое возразить. Во-первых, рассказ его о том, что мать желала принять на себя страдания вместе с ним, опровергается совершенно противоположными действиями матери. Если бы мать желала пострадать вместе с сыном, то, конечно, она не старалась бы опровергать сознание, сделанное сыном в том, в чем оно касается ее, однако она не только этого не делает, но, возражая упорно и горячо сыну, ни в чем не сознается. Во-вторых, сам собою представляется вопрос: мог ли подсудимый один совершить подобного рода преступление так, чтобы оно не было, хотя бы на первое время, бесплодным. Я полагаю, что он один, собственными силами мог совершить то действие, которым была пресечена жизнь