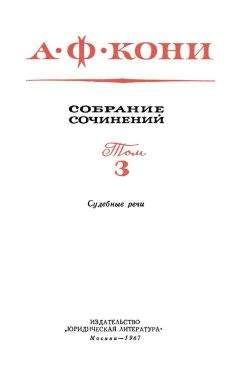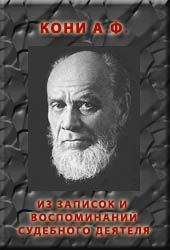Обследование рукописного материала А. Ф. Кони, сохранившегося в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), в Центральном государственном архиве Октябрьской революции СССР, в Государственных публичных библиотеках им. В. И. Ленина и им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, позволило выявить ряд писем, представляющих значительный общественно-литературный интерес. Избранное эпистолярное наследие А. Ф. Кони впервые публикуется в последнем томе.
Таким образом, в настоящем издании Собрания сочинений А. Ф. Кони сделана попытка более полно представить многогранное творчество замечательного юриста. В то же время широкое привлечение новых, неизвестных ранее материалов позволило отказаться от перепечатки некоторых произведений, утративших историческую, юридическую и литературную значимость.
При подготовке сочинений к печати встретились некоторые трудности, обусловленные отсутствием в архивах автографов большинства произведений. Тексты ряда журнальных публикаций порой существенно отличаются от окончательных вариантов, вошедших в пятитомник «На жизненном пути».
Не преследуя цели дать академически полное, снабженное вариантами воспроизведение трудов А. Ф. Кони, составители считают необходимым печатать критически проверенный их текст. Тексты сочинений и речей Кони даются по современной орфографии в их полном виде, с сохранением всех языковых особенностей. В приложении сообщается о первых публикациях, помещаются справки о более или менее значительных изменениях текста, произведенных Кони при перепечатках, а также предлагается реально-исторический комментарий.
С. Волк, М. Выдря, А. Муратов.
«Знаете ли вы чего-нибудь о причинах пожара этой огромной паровой мельницы на Измайловском проспекте против станции Варшавской дороги?» — спросил меня министр юстиции граф Пален, прибавив, что, проезжая накануне вечером мимо, он был поражен грандиозностью картины этого пожара. «Вероятно, я получу в свое время полицейское извещение, если есть признаки поджога», — отвечал я и, приехав в прокурорскую камеру (я был в это время, т. е. в 1874 году, прокурором Петербургского окружного суда), действительно нашел коротенькое сообщение полиции о том, что признаков поджога, вызвавшего пожар мельницы коммерции советника Овсянникова, не оказывается. Меня смутила краткость этого заявления, его ненужность по закону и его поспешная категоричность в связи с рассказом графа Палена. Я поручил моему покойному товарищу, энергичному А. А. Маркову, поехать на место и произвести личное дознание.
Поздно вечером он привез мне целую тетрадь осмотров и расспросов на месте, из которых было до очевидности ясно, что здесь имел место поджог. Собранные на другой день сведения о договорных отношениях, существовавших между известным В. А. Кокоревым и С. Т. Овсянниковым по аренде мельницы, указывали и на то, что именно Овсянникову мог быть выгоден пожар мельницы и что есть основания сказать: «is fecit cui prodest»[19]. Я предложил судебному следователю по особо важным делам, Книриму, начать следствие и немедленно произвести обыск у Овсянникова, а наблюдение за следствием принял лично на себя. Овсянников, не привыкший иметь дело с новым судом и бывший в былые годы в наилучших отношениях с местной полицией, причем за ним числилось до 15 уголовных дел, по которым он старым судом был только «оставляем в подозрении», не ожидал обыска и не припрятал поэтому многих немаловажных документов. Среди них, между прочим, оказался именной список некоторым чинам главного и местного интендантских управлений с показанием мзды, ежемесячно платимой им, влиятельным поставщиком муки, военному ведомству. Я отослал эту бумагу военному министру Д. А. Милютину.
Высокий старик, с густыми насупленными бровями и жестким взором серых проницательных глаз, бодрый и крепкий, несмотря на свои 74 года, Овсянников был поражен нашествием чинов судебного ведомства. Он был очень невежлив, презрительно пожимал плечами, возражал против осмотра каждого из отдельных помещений, говоря: «Ну, тут чего еще искать?!» — и под предлогом, что в комнатах холодно, надел какое-то фантастическое пальто военного образца на генеральской красной подкладке. Но «der lange Friedrich» как звали у нас Книрима, невозмутимо делал свое дело… Я подошел, между прочим, к оригинальным старинным часам в длинном деревянном футляре, вроде узкого шкапа. «Вот, изволите видеть, — сказал Овсянников, желая, вероятно, показать, что и он может быть любезен и владеть собою, — вот это большая редкость, это часы прошлого века. Таких, чай, немного». Подошел и Книрим. «А где ключ?» — спросил он. «Эй, малый! — крикнул Овсянников, — подать ключ!» Книрим подозвал понятых, отпер дверь футляра и стал исследовать его внутренность. Овсянников не вытерпел, грозно сдвинул брови и, энергически плюнув, отошел от часов.
Вечером в тот же день в камере следователя по особо важным делам был произведен допрос Овсянникова. Он отвечал неохотно, то мрачно, то насмешливо поглядывая на следователя и очень недоброжелательно относясь в своих показаниях к Кокореву. В конце допроса я отвел
Книрима в сторону и сказал ему, что нахожу необходимым мерою пресечения избрать лишение свободы, так как иначе Овсянников, при своих средствах и связях, исказит весь свидетельский материал. «И я нахожу нужным то же», — отвечал Книрим. «Надо, однако, дать старику, ради здоровья, некоторые удобства, и если вы ничего не имеете против Коломенской части *, где есть большие и светлые одиночные камеры, куда можно, с разрешения смотрителя, поставить свою мебель, то я распоряжусь об этом немедленно». — «Прекрасно, — сказал Книрим, — а я напишу краткое постановление». — «Господин Овсянников, — сказал я, усаживаясь сбоку стола, на котором писал Книрим, — не желаете ли вы послать кого-нибудь из служителей к себе домой, чтобы прибыло лицо, пользующееся вашим доверием, для передачи ему тех из ваших распоряжений, которые не могут быть отложены». — «Это еще зачем?»— спросил сурово Овсянников. — «Вы будете взяты под стражу и домой не вернетесь». — «Что? — почти закричал он. — Под стражу! Я? Овсянников? — и он вскочил с своего места. — Да вы шутить, что ли, изволите? Меня под стражу?! Степана Тарасовича Овсянникова? Первостатейного именитого купца под стражу? Нет, господа, руки коротки! Овсянникова!! Двенадцать миллионов капиталу! Под стражу! Нет, братцы, этого вам не видать!» — «Я вам повторяю свое предложение, а затем как хотите, только вы отсюда поедете не домой», — сказал я. «Да что же это такое! — опять воскликнул он, ударяя кулаком по столу, — да что я, во сне это слышу? Да и какое право вы имеете? Таких прав нет! Я буду жаловаться! Вы у меня еще ответите!» Его прервал Книрим, который прочел краткое постановление о взятии под стражу и предложил ему подписать. Тут он смирился и послал на извозчике одного из сторожей за старшим сыном. Допрос, между тем, продолжался вследствие выраженного им желания дать еще некоторые разъяснения. С прибывшим сыном он обошелся очень сурово и, когда тот, по моему приглашению, хотел сесть, он так взглянул на него, что тот заколебался и сел лишь, когда отец крикнул ему: «Ну, садись, садись! Я не воспрещаю».
На свой арест Овсянников принес жалобы в окружной суд и затем в судебную палату. Жалобы эти были написаны хотя и кратко, но искусно, умелою рукою. Оказалось, что их писал известный талантливый цивилист
Боровиковский, незадолго перед тем перешедший в адвокатуру из товарищей прокурора Петербургского окружного суда. За этот свой небольшой письменный труд, так как по жалобам такого рода поверенные не допускались к личным объяснениям, Боровиковский получил от Овсянникова 5 тысяч рублей. Известие об этом произвело некоторое волнение в петербургском обществе, очень чутко относившемся ко всему, что касалось дела Овсянникова. В огромном гонораре за небольшую работу многие были склонны видеть указание на то, что «король Калашниковской биржи» не остановится ни перед какими жертвами для того, чтобы попытаться еще раз остаться в совершенно безвредном для него «подозрении». Некоторые применяли к поверенному обвиняемого стихи Некрасова: «Получив гонорар неумеренный, восклицал мой присяжный поверенный: перед вами стоит гражданин — чище снега Альпийских вершин». Это доходило до Боровиковского и действовало на его впечатлительную натуру удручающим образом, так что он пришел, наконец, ко мне — своему старому сослуживцу и бывшему начальнику — и заявил, что жалобы написаны им потому, что его убедили в невиновности Овсянникова, сделавшегося жертвой общественного предубеждения, но что он готов возвратить деньги для избежания дальнейших упреков. Я сказал ему, что Овсянников может не взять денег обратно, не желая пользоваться его безвозмездными услугами, и что, кроме того, огласкою возвращения этих денег назад Боровиковский бросит лишний груз на чашу обвинения во вред доверившемуся ему клиенту, так как это возвращение будет, без сомнения, истолковано как признание им, Боровиковским, виновности последнего. Поэтому лучше дождаться решения присяжных и затем, подчинившись ему, пожертвовать такие деньги на какое-либо доброе дело, если приговор состоится против Овсянникова. Взволнованный Боровиковский не без труда согласился последовать этому совету. В день произнесения обвинительного приговора об Овсянникове он прислал в мое распоряжение, для употребления с благотворительною целью,