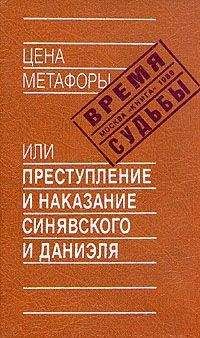Гражданин прокурор говорил здесь о том, что вот, мол, такие большие люди, как Леонтович и Каверин, нашли способ высказать свое мнение разумным путем — написали письмо, а вот мы, подсудимые, позволили себе выйти на демонстрацию и тем самым переступили границу закона. Почему же, — спрашивает гражданин прокурор, — мы не поступили, как Леонтович, Каверин, Ромм и др. Не знаю, как гражданин прокурор, но я как-то не совсем представляю себе академика Леонтовича, которому уже перевалило за семьдесят, на своем месте, т. е. с древком лозунга в руках на площади Пушкина Это во-первых. Во-вторых, гражданин прокурор и граждане судьи, вы, очевидно, прекрасно понимаете, что если письмо протеста подписано академиками, лауреатами государственных премий, членами Верховного совета СССР — это один эффект Совсем другое дело, если письмо подписано Буковским и Делоне, такое письмо и читать не будут. Демонстрация — это единственная мера, которую мы могли принять в качестве протеста Кстати говоря, люди с высоким общественным положением тоже иногда принимают участие в стихийных демонстрациях В Бабьем Яру в Киеве выступали многие писатели и другие представители общественности. В нашем деле имеются показания ряда лиц, что в митинге молчания на той же площади Пушкина 5 декабря 1966 г. приняли участие некоторые известные советские писатели.
Гражданин прокурор вменяет мне в вину то обстоятельство, что я, будучи не уверен в правомочности этой демонстрации, обратился за советом к своим старшим товарищам, а не в юридическую консультацию. Прежде всего, у меня практически не было времени для обращения, так как я узнал о демонстрации всего за два дня до нее, а сомнения по поводу ее правомочности и вовсе зародились во мне накануне 22 января. Во-вторых, я далеко не убежден, что в юридической консультации мне удалось бы получить исчерпывающий ответ. Я говорю это не без основания. После задержания на площади я, как и другие задержанные, был доставлен в городской штаб дружины и имел там продолжительную беседу с полковником КГБ Абрамовым, секретарем ЦК комсомола Матвеевым и секретарем МК партии Михайловым. Я признал свои действия несостоятельными, но никто в штабе городской дружины не говорил мне о возможности уголовной ответственности, а полковник Абрамов, между прочим, заявил мне дословно следующее: «Мы же спасли вас, Делоне, задержав на площади. Если бы вы пробыли там еще хотя бы минут 20, то собралась бы такая толпа народа, что движение было бы остановлено, и тогда вы, Делоне, поэт, интеллигентный молодой человек, были бы привлечены к уголовной ответственности за нарушение общественного порядка и сидели бы в тюрьме вместе с хулиганами и бандитами». Граждане судьи, у меня возникает один вопрос: если безусловно сведущий в вопросах права человек, как полковник КГБ Абрамов, считал привлечение к уголовной ответственности по статье 1903 возможным лишь в случае нарушения общественного порядка или неповиновения представителям власти, то мог ли я, человек, имеющий более чем дилетантские представления о юриспруденции, знать, что, принимая участие в демонстрации, я совершаю преступление? Гражданин прокурор подчеркивает то обстоятельство, что, сомневаясь в целесообразности и пользе этой демонстрации, я все-таки оказался в числе ее активнейших участников: доставил лозунг на площадь, развернул его вместе с Хаустовым и не покинул площади после того, как лозунги были отобраны. Разумеется, здесь сыграло свою роль не только чисто случайное стечение обстоятельств, были и другие причины. Я считал, что если я все-таки дал согласие на участие в демонстрации с определенными лозунгами, то и должен демонстрировать эти лозунги-требования, а не занимать позицию типа: Я не я, демонстрация не моя, и вообще стою с краю, ничего не знаю.
Судья: Подсудимый Делоне, есть ли у вас какие-нибудь просьбы к суду?
Делоне: Нет, просьб у меня нет. Я хочу только, чтобы суд меня правильно понял. Всё, что я говорю сейчас, здесь, в зале суда, и все, что я заявил на следствии, я говорил и говорю не из желания «спасти свою шкуру». Я приложил все усилия к тому, чтобы дать возможно более объективную оценку своим действиям. А делать это было, граждане судьи, не так-то просто. Я — человек, занимающийся творчеством, и поэтому я особенно тяжело переношу условия Лефортова или института Сербского. Лишь с большим трудом мне удалось пробудить в себе самом волю к жизни, к творчеству. Конечно, не произойдет ничего особенно страшного, если я получу 3 года. Я, скорее всего, не помру и не покончу самоубийством. Но хватит ли у меня сил на творчество после выхода из лагерей? Я в этом не убежден. Вот один из судебных заседателей сказал здесь: «Что они могут дать людям, кучка оторванных от народа молодых поэтов и художников?» Я не хотел бы касаться этой темы, но здесь уже разговор не только обо мне, поэтому эти слова особенно обидны, и я возьму на себя смелость сказать, что и не справедливы. Многие крупные специалисты в области искусства не разделяют точки зрения гражданина судебного заседателя. Я никогда не требовал себе пьедестала, не кричал, что я гений, поэтому и не был смогистом. Но ведь то, что я обладаю определенным поэтическим дарованием, то, что я могу сказать что-то людям, это же не моя «идея-фикс», это установлено достаточно компетентными людьми. Я не просил вызвать их в качестве свидетелей на этот процесс только потому, что здесь не идет речь о моих поэтических произведениях. Да, за последнее время я допустил несколько грубых ошибок. Одной из таких ошибок я считаю демонстрацию, но из этого вовсе не значит, что я ничего не могу сказать людям, что я опасен для общества.
Я считаю демонстрацию ошибкой не только в силу непродуманности лозунга: «Свободу Добровольскому, Галанскову и др.», но и потому, что, никогда не являясь поклонником таких мер, считал, что это не метод высказывания своей точки зрения. Именно желая предотвратить подобные инциденты, я и обращался в наши организации с просьбой о создании творческого дискуссионного клуба молодых. В силу обстоятельств я принял участие в демонстрации 22 января 1967 г. Теперь я еще больше убедился в правильности 'моей прежней точки зрения. Я сказал все и жду от вас, граждане судьи, справедливого решения.
Последнее слово Владимира Буковского
1.9.196?
Я приношу благодарность моему защитнику и моим товарищам.
Готовясь к суду, я ожидал, что суд полностью выявит все мотивы действий обвиняемых, займется юридическим анализом дела. Ничего этого суд не сделал. Он занялся характеристикой обвиняемых — между тем, хорошие мы или плохие, это не имеет отношения к делу.
Я ожидал от прокурора детального разбора «беспорядка», который мы произвели на площади: кто кого ударил, кто кому наступил на ногу. Но и этого не последовало.
Прокурор в своей речи говорит: «Я вижу опасность этого преступления в его дерзости».
Судья: Подсудимый Буковский, почему вы цитируете речь обвинителя?
Буковский: Надо мне — я и цитирую. Не мешайте мне говорить. Поверьте, мне и так нелегко говорить, хотя внешне моя речь идет плавно. Итак, прокурор считает наше выступление дерзким. Но вот передо мной лежит текст советской Конституции:
«В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом… г) свобода уличных шествий и демонстраций». Для чего внесена такая статья? Для первомайских и октябрьских демонстраций? Но для демонстраций, которые организует государство, не нужно было вносить такую статью — ведь и так ясно, что этих демонстраций никто не разгонит. Нам не нужна свобода «за», если нет свободы «против». Мы знаем, что демонстрация протеста — это мощное оружие в руках трудящихся, это неотъемлемое право всех демократических государств.
Где отрицается это право? Передо мной лежит «Правда» от 1? августа 1967 г., сообщение из Парижа. В Мадриде происходил суд над участниками первомайской демонстрации. Их судили по новому закону, который недавно принят в Испании и предусматривает тюремное заключение для участников демонстрации от полутора до трех лет. Я констатирую трогательное единодушие между фашистским испанским и советским законодательством.
Судья: Подсудимый, вы сравниваете вещи несравнимые: действия фашистского правительства Испании и Советского государства В суде недопустимо сравнение советской политики с политикой иностранных буржуазных государств Держитесь ближе к существу обвинительного заключения. Я возражаю против злоупотребления предоставленным вам словом.
Буковский: А я возражаю против нарушения вами моего права на защиту.
Судья. Вы не имеете права что-либо возражать. В судебном процессе все подчиняется председательствующему.