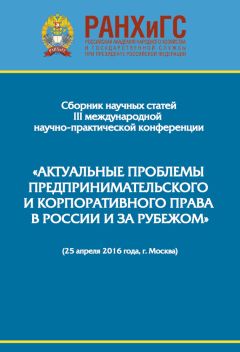Людмила Арчиловна Гоготишвили
Непрямое говорение
Людмила Арчиловна Гоготишвили, родилась в 1954 г. Окончила филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1980). Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института философии РАН. Автор около 70 научных работ по философии языка, символизму, феноменологии, истории русской филологии XX века. Член авторского коллектива по изданию Собрания сочинений М. М. Бахтина, участник научно-исследовательского проекта «Из архива А. Ф. Лосева»
В книгу включены пять работ 1999–2006 гг., расположенных в порядке написания и связанных сквозной темой «непрямого говорения». Три первые статьи – о Вяч. Иванове и М. М. Бахтине – публиковались ранее; [1] по материалам четвертой работы – об «эйдетическом языке» А. Ф. Лосева – был издан доклад на международной конференции, [2] сама же работа была закончена позже и публикуется впервые. Ключевое место занимает также не публиковавшаяся ранее последняя – писавшаяся специально для данной книги – работа «К феноменологии непрямого говорения»; она носит относительно текстов предшествующих «персональных» разделов обобщающий, экстраполирующий и развивающий тему характер (в ней расширяется контекст обсуждения проблем за счет подключения ряда современных западных гуманитарных направлений, обосновывается само понятие «непрямое говорение» и производится попытка последовательного рассмотрения в едином феноменологическом ракурсе его различных аспектов, включая как те, которые анализировались в «персональных» разделах вне специально феноменологического угла зрения, так и те, которые там не затрагивались). Нельзя не заметить, что избранный в последней работе феноменологический ракурс и расширение концептуального контекста привели к частичным терминологическим смещениям относительно сложившегося ранее языка описания и интерпретации ивановских, бахтинских и лосевских текстов; тем не менее в основе всех разделов книги лежит единая – уточняющаяся, развивающаяся и далекая от завершения – идея. Будучи генетически связанной с циклом статей о Вяч. Иванове, А. Ф. Лосеве и М. М. Бахтине и в определенной мере ретроспективной (некоторые из предложенных решений о конкретных «механизмах» непрямого говорения содержательно смыкаются с моими статьями, относящимися к 1980-м годам), работа «К феноменологии непрямого говорения» носит вместе с тем гипотетический, поисковый и предварительный характер с расчетом на раскрытие возможных перспектив темы в будущем.
Я благодарна И. Н. Фридману, прочитавшему рукопись «К феноменологии непрямого говорения» и высказавшему ряд весьма ценных советов и замечаний. Выражаю признательность Институту философии РАН и Российскому гуманитарному научному фонду, на протяжении многих лет поддерживающим мои занятия феноменологией языка, ивановским, лосевским и бахтинским наследием и издание соответствующих трудов, в том числе и этой книги.
Между именем и предикатом (символизм Вяч. Иванова на фоне имяславия)
Отношение Вяч. Иванова к имяславию значимо и само по себе, и как выразительный общий фон для обсуждения ивановских воззрений на язык в целом. Сложность такой постановки темы в том, что прямых, а тем более развернутых высказываний Иванова об имяславии почти не сохранилось, хотя в устном общении (с П. А. Флоренским, С. Н. Булгаковым, В. Ф. Эрном и др.) их, конечно, не могло не быть. [3] Известны, собственно говоря, лишь несколько косвенных упоминаний Иванова об имяславии. Возможно, здесь мы тоже имеем дело с тем, что С. С. Аверинцев удачно назвал характерной для Иванова – по тем или иным причинам – стратегией неупоминания или умалчивания. Что же могло лежать в основе такой стратегии в данном случае?
В литературе, особенно последних двух десятилетий, имя Иванова и имяславие достаточно тесно сополагаются, причем чаще в прямо отождествляющем, чем в просто ассоциирующем смысле. Вопрос этот, однако, настолько сложен, что ни через знак равенства, ни через синонимизирующую запятую, ни, с другой стороны, через молчаливое полагание отсутствия всяких точек соприкосновения (нет высказываний об имяславии – нет и проблемы сопоставления) решен быть не может. Хотя имяславие, несмотря на его глубинную, сущностную связь с проблемой языка, воспринималось (и воспринимается) почти исключительно как острая религиозная проблема, и в нем самом, и в околоимяславских спорах содержались (и содержатся) отголоски практически всех главнейших дискуссионных тем тогдашней (и современной) эстетической, лингвистической и в целом гуманитарной мысли – тем, на которые Иванов почти всегда так или иначе откликался. Возможно ли в таком случае принять то простое решение, что, мол, только обычное и известное ивановское нежелание прямо высказываться по «последним» догматическим вопросам лежало в основе его неупоминания имяславия, к которому он тем не менее склонялся? Ведь именно этот период в творчестве Иванова часто называли (достаточно вспомнить Н. А. Бердяева или А. Белого) догматическим, и многое из состава идей и понятий того же Флоренского или Эрна действительно безболезненно, как в позитивной, так и в негативной оценке, появлялось в ивановских текстах этого периода. Следует, видимо, искать другие причины молчания Иванова по поводу прямых имяславских тем.
Прежде чем приступить, однако, к подробному обсуждению этой и связанных с ней других проблем, оговорим, что всё сказанное ниже будет иметь отношение только к сугубо интеллектуальным концептам, усматриваемым в рамках ивановского символизма и имяславия – вне всякой связи с вопросом о возможности реального воплощения всех рассматриваемых идей на практике.
1. Между именем и метафорой (историко-сопоставительный аспект)
Самое насыщенное и перспективное для интерпретации, хотя – как и всегда – брошенное вскользь, упоминание имяславия содержится в статье 1922 года «О новейших теоретических исканиях в области поэтического слова». В начале статьи Иванов разбирает работу А. Белого «Жезл Ааронов – о слове в поэзии», оспаривая предложенные Белым критерии противопоставления пушкинской и тютчевской поэтических манер. В творчестве Тютчева, согласно ивановской интерпретации мысли Белого, «подсознательное, ночное, хаотически стихийное» расцветает метафорой, а мысль – дневная, ясная сторона сознания – не находит средств для адекватного поэтического воплощения и остается отвлеченной. Пушкинский же «солнечный логизм», по мысли Белого, проникает в сущность вещей и непосредственно воплощается в адекватном звуке слова, чуждаясь метафоры, но дробясь и играя «в хрустальных гранях метонимии». [4] Описывая далее свое, заявленное как в принципе отличное от предложенного Белым, понимание разницы пушкинской и тютчевской манер, Иванов среди прочего говорит, что Пушкин, «потому, что своей самодеятельной мысли в отличие от уже изреченной в космосе как бы вовсе не имел», ограничивался тем, что в таком случае остается: только именовать вещи и их отношения, а с ними и их вечные, напечатленные на них платоновские идеи. И вот интересующее нас место: «Пушкин – бессознательно платоник в своем взгляде на мир; и Пушкин – «имяславец» (выделено мною. – Л. Г.). Его имена (и косвенно его переименования, метонимии) суть живые энергии самих идей» (4, 636).
Максимально симптоматичное место. К 1922 году открытые и острые имяславские споры по многим причинам уже сходили на нет; во всяком случае к тому моменту уже прошло достаточно времени, чтобы определиться. И хотя Иванов и здесь, как всегда, осторожен и отрешен от соотносительных иерархических оценок, он тем не менее достаточно и как бы «финально» определенен: если Пушкин – имяславец, то противопоставляемый ему здесь же Тютчев (константный в ивановских текстах своего рода «символ символизма»), соответственно, не имяславец. Следовательно, и само имяславие здесь в каком-то смысле противопоставляется символизму.
Смысл этого противопоставления пока не ясен; контекст, в котором использовано слово «имяславие», не только не намекает на какое-либо иерархическое (по сравнению с символизмом) снижение пушкинского солнечного логизма в силу его «имяславия», но максимально подчеркивает своей платонической «терминологией» высоту и беспрекословность этой силы, да и имя Пушкина само по себе отторгает какое-либо умаление при любых сравнениях. И все же далее у Иванова зазвучит и противопоставляемая им этой «беспрекословной силе» идея, как бы ограничивающая поле действия солнечного логизма, а соответственно, и платонизирующего имяславия: «Пушкин метко схватывает сущности и право их именует, они же сами непосредственно являют, в ответ на правое их именование, свою связь и смысл – до некой заповедной черты, где именование прекращается (выделено мною. – Л. Г.), потому что за нею область немоты, где сущности говорят уже не живым, а «мертвым языком о тайнах вечности и гроба»» (4, 637). Здесь намечена возможная «точка несогласия» Иванова с имяславием: да, именование – действенная сила, и ему подлежат даже сущности и идеи, но оно не всеохватно: имеется некая межа, после которой «именование прекращается» и, надо понимать, начинается что-то в языковом отношении иное.