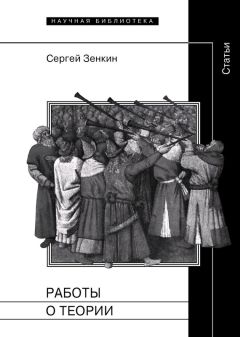Сергей Зенкин
Работы о теории. Статьи
Научное приложение. Вып. CXII
В оформлении обложки использованы фрагменты миниатюры Жана Фуке «Иерихонские трубы» из Часослова Этьена Шевалье. 1452–1460
© С. Зенкин. 2012
© Оформление. ООО «Новое литературное обозрение», 2012
Моя первая книга в России вышла в 1999 году под названием «Работы по французской литературе». Нынешний сборник озаглавлен и похоже, и иначе: я продолжаю изучать художественную словесность Франции, но здесь о ней нет специальных статей – книга посвящена другому предмету, который за неимением лучшего слова именуется гуманитарной теорией.
Слово «теория» получило свой специфический смысл в американской науке[1]; этому его пониманию в основном следую и я, хотя моя книга не об американских, а о русских и западноевропейских теоретиках, соответственно круг ее проблем несколько иной (он включает, например, семиотику поведения и не включает проблемы идентичности – этнической, гендерной и т. п.).
Современная гуманитарная теория – междисциплинарная рефлексия, так что даже нелегко сказать, «теорией чего» она является. Возникнув первоначально как теория литературы, она в дальнейшем распространила свою деятельность на все пространство гуманитарного знания и начала, словно киплинговская кошка, гулять сама по себе, в качестве критического оппонента общепринятых, обычно идеологически мотивированных представлений о культуре[2]. Конкретной научной «практикой» по отношению к ней могут выступать разве только cultural studies – очень расширительно понимаемая «культурология»; но она вообще не стремится учить кого-либо каким-либо практическим умениям и предлагает самоценное обобщенное знание, подобное философскому, хотя и не априорно-спекулятивное по природе. Ее междисциплинарность сочетается с авторефлексивностью, ее творцы и историки постоянно задаются вопросами о возможности, пределах, условиях скрещения разных систем знания, взаимодействия разнородных идей: как применить социологию Пьера Бурдье к художественной литературе? как распространить теорию литературной фантастики на кино? и т. д. Наконец, развитие современной гуманитарной теории носит кумулятивно-самоописательный характер. В естественных, а отчасти и социальных дисциплинах теоретические концепции сменяют одна другую под напором добываемых учеными эмпирических фактов: старая теория перестает объяснять факты, ее отбрасывают и вместо нее (возможно, с использованием ее элементов) создают новую. В современной гуманитарной мысли теоретические идеи не забываются до конца, не делаются мертвым историческим памятником, у них всегда может быть свой «праздник возрождения» (Бахтин), и в теоретических работах они обсуждаются вновь и вновь, обнаруживая свои новые смысловые потенции, которые были не вполне ясны самим их авторам – просто потому, что их авторы еще не знали нашего нынешнего интеллектуального контекста. Гуманитарная теория оперирует не безответственными «мнениями», а – по крайней мере, в идеале – научно проверяемыми знаниями; однако внимание к собственной традиции сближает ее не столько с наукой, сколько с литературой, и потому ее изучением занимаются не только специалисты по истории наук, но и филологи-литературоведы. Последние прилагают к теоретическим идеям приемы и принципы исследования, сложившиеся в работе с классическими текстами художественной словесности – памятниками прошлого, которые не устаревают и сохраняют продуктивность для современной творческой мысли.
Первый, характерно филологический, принцип – внимание не только к прямым, но и к скрытым, фигуральным смыслам. Исследователь гуманитарной теории принимает в расчет концептуальное содержание идей, но также и суггестивно-эвристическую силу метафор; конкретные примеры, приводимые теоретиками для подтверждения и прояснения своих концепций, оказываются не менее, а то и более показательными для движения их мысли, чем общие формулировки этих концепций. В устройстве абстрактных идей обнаруживаются «мыслительные схемы», которые могут носить не понятийный, а, скажем, нарративный или пространственный характер. Теоретики, которых мы изучаем, могли и не задумываться об этих дологических структурах своего мышления, а наше дело выводить эти структуры на поверхность, демонстрировать их продуктивную силу, их способность формировать концепции, далеко отстоящие друг от друга на карте гуманитарного знания (как, например, литературную теорию русского формализма и социологию Эмиля Дюркгейма). Такое выслеживание пра-идей, интеллектуальных генотипов, «внутренних форм» мысли, которые часто дают о себе знать лишь неброскими симптоматичными чертами, затерянными в концептуальных построениях, можно назвать герменевтикой научного дискурса; по своей методике она, видимо, сближается с «уликовой» познавательной деятельностью по Карло Гинзбургу или с методом деконструкции у Жака Деррида.
Второй исследовательский принцип, также связанный с филологической практикой, состоит в том, чтобы соотносить слово и мысль теоретиков с поступками. Речь тут идет не о соблазне биографического редукционизма, когда текст пытаются вывести из обстоятельств жизни того, кто его написал. Если уж на то пошло, современная теория побуждает к обратной операции – искать, каким образом абстрактные идеи того или иного автора могли определять собой его жизненное поведение или как минимум его взгляд на собственную жизнь; так это происходило, например, в биографии и автобиографической прозе Виктора Шкловского. Но соотношение слова и дела, мысли и поступка имеет также другой аспект, выходящий за рамки чьей бы то ни было личной судьбы, – это вообще главная линия напряжения между «социальными» и «гуманитарными» науками, на этой оси располагается ряд собственно теоретических проблем, возникающих благодаря открытиям гуманитарной мысли ХХ века: до какой степени можно уподоблять социальное поведение тексту (у Юрия Лотмана или Поля Рикёра)? что происходит с жизненным опытом при его включении в литературное произведение (по Михаилу Бахтину)? какие специфические действия совершаются с текстом при возникновении «литературного культа»? и так далее.
Третий исследовательский принцип требует помнить, что слово и текст, изучаемые в лингвистике или семиотике, соприкасаются еще с одной смежной областью, наряду с областью бытовых или исторических поступков. Это область визуальности, сфера образа и мимесиса, понимаемых не в традициях классической психологии и эстетики, а в новейшем феноменологическом смысле, в связи с опытом телесного (само)познания, освоения мира и отношений с Другим. В эту область заставляют нас углубляться не только сами визуальные объекты (например, фантастическое кино), но и теории, с помощью которых современная наука и философия пытаются уловить феномены мимесиса и образа, – методами философско-эстетическими (Вальтер Беньямин), семиотическими (Юрий Лотман и Ролан Барт), историко-философскими (Михаил Ямпольский). Поступок и образ – два предела, между которых живут, функционируют слово и знак, тяготея то к одному, то к другому из этих пределов. Методологически сознательная наука, в том числе и теория словесности, должна быть особо внимательной к таким границам своей компетенции.
Статьи, составившие настоящую книгу, писались независимо от какого-либо общего проекта и потому неизбежно разнородны. Затрагиваемые в них дисциплины – социология, историография, семиотика, теория кино, а также, разумеется, философия, чьи априорные идеи помогают формировать язык описания научно-теоретических концепций, – не в равной мере знакомы мне, и, вторгаясь на их территорию, следовало соблюдать особую осмотрительность (не могу судить, насколько успешно я сумел ее соблюсти). Почти все они написаны за последние 15 лет, в период моей работы в Институте высших гуманитарных исследований РГГУ, чья междисциплинарная атмосфера и присутствие крупнейших ученых-гуманитариев – М.Л. Гаспарова, Е.М. Мелетинского, В.Н. Топорова и других – очень способствовала размышлениям об общих проблемах и структурах гуманитарной теории. Однако даже в статьях последних лет сохраняется тематическое ядро, отсылающее ко временам еще более ранним, – это несколько крупных научных и интеллектуальных течений, которые интересуют меня еще со студенческих лет, к переосмыслению которых я возвращаюсь вновь и вновь: русский формализм, Тартуская школа, французский структурализм, Бахтин… Вообще, в моих статьях (что обусловлено уже упомянутой выше кумулятивной спецификой современной теории, оглядывающейся на собственную традицию) все время соединяются в разных пропорциях, не всегда отчетливо переходят друг в друга два типа рефлексии: герменевтическое вчитывание в чужие идеи и собственная постановка концептуальных проблем. Анализ сделанного прежде – для меня нечто большее, чем обычная в научном исследовании «история вопроса»: это всякий раз попытка с помощью чужой мысли мобилизовать какие-то продуктивные механизмы собственного мышления и применить их к исследованию предметов, о которых еще не думали предшественники. Рискуя быть превратно понятым, я бы сказал, что ощущаю себя в науке эпигоном – не в современном смысле «подражателя» (мой герменевтический дискурс вовсе не имитирует чужие концептуальные дискурсы), а в исходном древнегреческом значении «родившегося после». Согласно старинной, известной еще по средневековой иконографии метафоре, я стою на плечах гигантов: своими открытиями они обеспечили мне кругозор, которого я бы не смог достичь сам, и важнейшая сторона моей теоретической работы состоит в том, чтобы вникать в сделанное ими – вникать уважительно, но и взыскательно-критически, с творческим, а не музейно-почтительным интересом. Иными словами, для меня герменевтика теории – это не только интеллектуальная история современности, но и аутогерменевтика, работа интеллектуального самопознания.