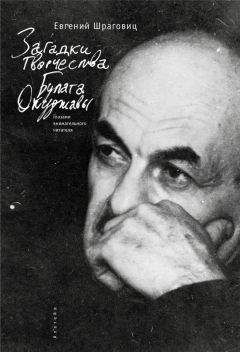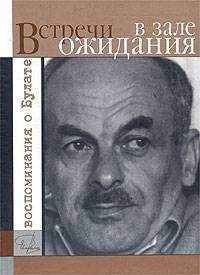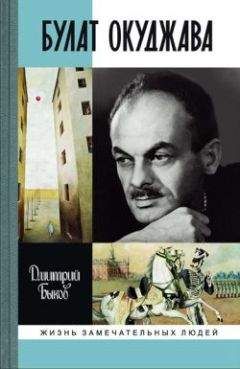Тут можно заметить, что невозможно «перекроить все иначе» в однажды скроенном пиджаке. С другой стороны, оборот напоминает несбыточное пожелание, которое часто высказывают люди касательно собственной судьбы или каких-то качеств, которые нельзя полностью изменить. Однако далее Окуджава дает понять, о чем же идет речь:
«…сулит мне новые удачи
искусство кройки и шитья».
Здесь опять появляется ситуация, логикой не постижимая, вполне в гоголевской манере. По словам героя, искусство портного обещает ему – герою – новые удачи. Насколько нам известно, сочетание слов «сулит мне новые удачи» до Окуджавы в поэзии не встречалось, да и вообще глагол «сулить» у поэтов появлялся нечасто. Зато в прозе Паустовского, которого Окуджава любил и читал, есть слова: «.. сулит мне много разочарований». Бросается в глаза неофициальность в отношениях героя с портным, которому он поверяет свои сокровенные мысли, обратив их в шутку.
Однако если предположить, что пиджак – вовсе не пиджак, что символика этого образа, как в стихотворении Г. Иванова, о котором мы говорили выше, связана с творческим процессом, а портной уподоблен поэту, коллизия обретает смысл. Можно также добавить, что, поскольку Окуджаве в тот момент была свойственна рефлексия, связанная с его собственным творческим «я», портной – это, скорее всего, не творец вообще, а alter ego самого Окуджавы, и в этом стихотворении он как бы воплощает поэтическое начало в личности автора. Это объясняет, почему герой может не «пригласить», а «позвать» к себе портного и в такой степени доверяет ему. Здесь припоминается Мандельштам:
Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!
Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!
В этом стихотворении поэт тоже обращается фактически к самому себе.
Мы уже отмечали выше, что в период создания этой песни Окуджава многократно возвращался к теме Музы и Судьбы. Таким образом, бытовая история о перешивании пиджака – это аллегория. Продолжим наше рассмотрение.
Я пошутил. А он пиджак
серьезно так перешивает,
а сам-то все переживает:
вдруг что не так. Такой чудак.
Здесь, как это часто встречается у Окуджавы, возникает самоирония и одновременно выражена преданность призванию поэта. Вот что Окуджава говорил позже по этому поводу: «Судьба меня закалила, многому научила и в то же время не лишила способностей выражать себя теми средствами, которыми меня наделила природа. Хорошо или плохо я ими распорядился – не мне судить. Во всяком случае, я очень старался»[90].
Далее следует:
Одна забота наяву
в его усердьи молчаливом,
чтобы я выглядел счастливым
в том пиджаке. Пока живу.
В этой строфе Окуджава утверждает, что счастье для него в творчестве и что он не жалеет усилий и будет трудиться, пока жив. Эта тема возникает также в песне «Шарманка». В последней строфе стихотворения мы читаем:
Он представляет это так:
едва лишь я пиджак примерю —
опять в твою любовь поверю…
Как бы не так. Такой чудак.
Не потому ли герой так естественно проникает в мысли портного, что они оба воплощают два начала одной и той же личности?
В добавление к этому, сама мысль о том, что примерка пиджака может повлиять на любовь женщины, выглядит как абсолютный абсурд, но Окуджаву это не беспокоит, и он даже намеренно его подчёркивает, поскольку это аллегория и та, о которой идёт речь, не любимая женщина, а Муза. Как поэт, Окуджава надеется, что плод его новых трудов – песни, которых он раньше не писал, дадут ему уверенность в том, что Муза к нему не охладела. А скептик в нем говорит, что такой уверенности все равно не будет. Здесь опять слушатель сталкивается с самоиронией Окуджавы.
Сравним состав действующих лиц в текстах Г. Иванова и Окуджавы. У Иванова фигурируют портной-поэт, обновка (брюки) – то, что он создал, и Судьба, которая подносит ему цветы и убивает, в то время как его произведения летят в вечность. У Окуджавы два разных персонажа воплощают творческое и скептическое начала в его внутреннем мире («я» и портной), и разговор идет об изменениях в поэтической манере, которые должны принести автору «новые удачи». Тут следует вспомнить, что «Старый пиджак» сочинен в самом начале «песенного» этапа творческого пути Окуджавы. Сомнения в том, что неожиданный успех, пришедший к нему, сохранится, отражаются в тексте и буквально пронизывают его. Лирический герой – alter ego Окуджавы – не убежден, что Муза, в любовь которой он однажды поверил, всё ещё его любит, и ждёт от неё подтверждений, хотя и не очень на них полагается. При наивном прочтении можно увидеть в песне обращение к женщине. Хотя невозможно полностью исключить такую интерпретацию, следует вспомнить, что и в стихотворении Г. Иванова, от которого отталкивался автор «Старого пиджака», и во многих других песнях Окуджавы того же периода речь идет совсем не об отношениях с женщиной, а о творчестве. Использование аллегорий, связанных с одеждой, довольно типично для Окуджавы. Можно вспомнить хотя бы мантию у короля в песне «Старый король» того же периода, что и «Старый пиджак», или плащ в песне «Заезжий музыкант…», где от лица автора сказано: «Дождусь я лучших дней и новый плащ надену» и где опять же появляется тема судьбы. В этой главе уже цитировались слова Окуджавы, приведенные автором как комментарий к «Искусству кройки и житья» в сборнике современной прозы «Последний этаж». Название рассказа лишний раз напоминает о том, что в песне слова «искусство кройки и шитья» – это метафора.
Влияние Г. Иванова, кроме «Старого пиджака», было прослежено нами в песне «Шарманка-шарлатанка», что вместе со сходностью тем служит лишним доказательством аллегорической природы обоих стихотворений. Это влияние принимает в двух песнях разную форму. В «Шарманке», как и в стихотворении Г. Иванова «Шарманщик», фигурирует шарманщик как центральный образ, говорится о том, что героям трудно идти, и оба произведения написаны размером песни «Разлука ты, разлука…». При этом у Окуджавы это аллегория, а у Г. Иванова – бытовая зарисовка. «Старый пиджак» – несколько иная драма с другими декорациями, чем в «Шарманке», где превалировала образность Анненского, связанная с этим инструментом. Что касается влияния Г. Иванова, присутствующего в песне «Старый пиджак», то оно проявляется во многих компонентах стихов: выборе темы – поэзия и судьба, метода – аллегория, центрального образа – портной; в сравнении стихов со швейными изделиями. Однако есть и существенные различия как в составе действующих лиц, так и в раскрытии темы. У Окуджавы сюжет сложнее, чем у Г. Иванова: мы уже говорили о появлении двух персонажей вместо одного. Окуджава и в стихах того же периода («Песенка о моей душе», 1957–1961) и более поздних стихах («Боярышник “Пастушья шпора”», 1968) говорит о двойственности своей натуры. Так что в песне Окуджавы сосуществуют разные сюжетные линии и отношения: «я» и портной, портной и пиджак, «я» и пиджак, «я» и Муза, Судьба, женщина; в то время как у Г. Иванова в стихотворении нет персонажа, от лица которого оно написано, поэтому сюжет выглядит проще. Сказывается и различие в мироощущении. У Г. Иванова Судьба (Муза), согласно мелодраматическому стереотипу, который Г. Иванов пародирует вполне в духе «Шинели», убивает творца, а у Окуджавы с его лирическим настроем она его или любит или не любит, что не так драматично. Как мы уже упоминали выше, влияние Г. Иванова прослеживается на всех этапах творческого пути Окуджавы.
Завершая разговор о песне «Старый пиджак», можно констатировать её многоплановость, которая характерна для стихов крупных поэтов. Применённая Окужавой аллегория позволяет слушателю/читателю самому наполнить её своими образами, не обязательно точно совпадающими с теми, которые руководили автором. То, что объединяет наивную и более глубокие трактовки – это общность некоторых главных идей. В наивной интерпретации это история о том, что в жизни не так-то просто всё переменить, и если даже это тебе удастся, это ещё не означает что и дальше все пойдет гладко. А более внимательные слушатели/читатели могут увидеть в тексте отражение проблем творчества, волновавших тогда поэта. И те и другие правы, поскольку более глубокое понимание песни не противоречит наивному толкованию, а дополняет его. А если ещё добавить неспешный и меланхолический мотив, то становится понятным, почему эта, простая на первый взгляд, песня принадлежит к числу наиболее известных песен поэта.
За что и кому молился оКуджава в стихах и песнях конца пятидесятых – начала шестидесятых годов
Хотя многие творения Окуджавы появились на свет в те времена, когда слово «Бог» в художественных произведениях по мере возможностей избегали использовать, в его сочинениях, как и в творчестве многих значительных поэтов, можно обнаружить библейский пласт. Это зафиксировано исследователями; но, по нашему мнению, своеобразная ироничная творческая манера Окуджавы позволила ему установить в своих стихах особые отношения с библейскими текстами и догмами, и об этом мы будем говорить в этой главе. Здесь мы должны заметить, что религиозные взгляды Окуджавы нас занимают постольку, поскольку они находят отражение в конкретных текстах, и только в связи с этими текстами мы будем их обсуждать. Так как Окуджава применял «кустовой» способ разработки волновавших его проблем, возможно связать стихи и песни одного периода в некое смысловое целое. Нас будет интересовать начало 60-х годов. В качестве предыстории религиозной темы уместно напомнить, что, по словам самого Окуджавы, он рос «красным мальчиком» и в юности его идеалы и мировоззрение соответствовали воспитанию в коммунистическом духе, полученному им и его сверстниками. Так что мы вполне можем верить, что восклицания вроде: «.. к черту сказки о богах!» в песне «Не бродяги, не пропойцы…» адекватно отражают отношение поэта к религии в ранний период его творчества (50-е годы). И когда он упоминает о «самом страшном суде» в песне «Неистов и упрям», имеется в виду, конечно, суд земной. А интерес к «небесным» явлениям возник одновременно с изменением его политических взглядов, в конце 50-х годов. Тогда появилась, например, «Песенка о комсомольской богине» (1958), где образ небожительницы уже лишен негативной окраски. В стихотворении «Детство», датированном 1959 годом, фигурирует Саваоф, а в песне 1959 года «Три сестры» и вовсе присутствует перекличка с Библией. Приведём текст этой песни[91]: