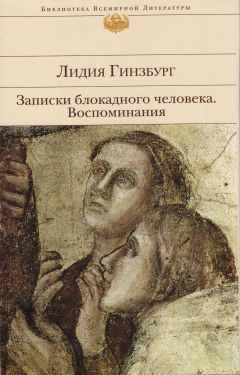Мессианизм был вообще действенным элементом романтической культуры. Это отмечали исследователи романтизма. В. М. Жирмунский указывает на значение, какое имели в мировоззрении иенских романтиков (особенно Фр. Шлегеля и Новалиса) концепции героя, учителя, пророка и «магического поэта»[42]. Этим романтическим избранником не только не движут личные страсти и вожделения, но, напротив того, он ежеминутно должен быть готов к жертве и гибели во имя той высшей истины, носителем которой он является, и ради тех людей, которым он принес эту истину. В России первой половины XIX века иенских романтиков знали мало. Но идеи эти носились в романтическом воздухе. К тому же их подкрепили хорошо известные русскому образованному обществу 30-х годов положения шеллингианской эстетики с ее образом боговдохновенного поэта. В то же время русский романтический мессианизм 1830-х годов – напряженное чувство своей призванности и предназначенности – связан с политическими и социальными чаяниями, в большей или меньшей степени проясненными.
У Герцена, у Огарева эти настроения естественно входят в круг социально-утопических мечтаний. В 1833 году Герцен сообщает Огареву о своем резком объяснении с университетским товарищем, которого подозревали в низком поступке. Огарев взволнованно пишет в ответ: «Ради бога не доводи себя до дуэли; вспомни, кто ты и для чего»[43].
Романтики 30-х годов стремятся придать грандиозность, высший и общий смысл даже интимнейшим, казалось бы, переживаниям. Эти переживания переплетаются и с мечтами об освобождении человечества, и с религиозной фразеологией, столь характерной для ранней стадии утопического социализма (и западного, и русского). Огарев пишет невесте: «Наша любовь, Мария, заключает в себе зерно освобождения человечества… Наша любовь, Мария, будет пересказываться из рода в род; все последующие поколения сохранят нашу память, как святыню. Я предрекаю тебе это, Мария, ибо я – пророк, ибо я чую, что бог, живущий во мне, нашептывает мне мою участь и радуется моей любви»[44]. Еще раньше Огарев писал Герцену: «Я молился богу, чтобы уничтожил меня, если я не имею предназначения выполнить, что хочу…»[45] Интенсивность самосознания Огарева, человека гораздо более пассивного, чем Герцен или Бакунин, особенно характерна. Здесь уже очевидно, что мы имеем дело с фактом не только психологического, но прежде всего исторического порядка, с типическим для романтического сознания соотношением между личным и общим.
Личность непрерывно и жадно обогащается содержанием социальной жизни. Наука, искусство, общественная деятельность – все это элементы роста и обогащения души. Отсюда принципиальный дилетантизм (впоследствии, в переломный момент, недаром заклейменный Герценом), тайное неуважение к объекту. Предметы объективного мира растворяются, перерабатываются в горниле «романтического духа», и в то же время из первоисточника своего сознания романтик черпает истины, которые мыслятся ему как имеющие всеобщее значение.
В 1840 году Огарев, в письме к Герцену, с замечательной трезвостью анализа оглянулся на юношескую идеологию своего круга: «Первая идея, которая запала в нашу голову, когда мы были ребятами, – это социализм. Сперва мы наше я прилепили к нему, потом его прилепили к нашему я – и главной целью сделалось: мы создадим социализм. Не отрекайся, это правда. Чувствуешь ли ты, что в этом много уродливости, что тут эгоизм, хорошо замаскированный, но тот же эгоизм?»[46] Романтическая личность далека от вульгарного эгоизма (плохо замаскированного), она вмещает целый мир, но весь этот мир философии, науки, искусства, политики, религии, вмещенный ею, превращается в питательную среду для требований личности, и все оборачивается внезапно своей этической стороной – проблемой судьбы и поведения человека.
Юношеский мессианизм Герцена и Огарева непосредственно связан с революционными устремлениями, тем самым с преобразованием жизни. Отсюда приуготовление себя к соответствующей деятельности. Молодой Бакунин тоже предчувствует в себе деятеля, но, в сущности, он еще сам не знает какого, на каком поприще. Пока что он толкует о философском познании и религиозно-моральном самовоспитании, о посвящении себя науке, хотя эти мирные цели явно неадекватны его душевному складу. «Я – человек обстоятельств, и рука божия начертала в моем сердце следующие священные буквы, обнимающие все мое существование: „он не будет жить для себя“. Я хочу осуществить это прекрасное будущее. Я сделаюсь достойным его. Быть в состоянии пожертвовать всем для этой священной цели – вот мое единственное честолюбие» (I, 169). Это письмо 1835 года к сестрам Беер – первая сознательная формулировка бакунинского мессианизма, и одна из самых отчетливых. Здесь с замечательной ясностью раскрыт тот психологический механизм, который Огарев назвал «хорошо замаскированным» эгоизмом романтиков. Юный романтик готов ко всем тяготам и жертвам, но при одном условии: величайшие всеобщие ценности должны прийти в мир через него, осуществиться в его личности.
В письмах к сестрам 1836 года Бакунин прямо говорит, что он следует «миссии… указанной… провидением» и состоящей в том, чтобы «поднять землю до неба» (I, 219). И в другом письме: «Нужно разбить все ложное без жалости и без изъятия для торжества истины, и она восторжествует, царство ее придет, и все те, кто был слаб, все те, кто испугался жалких призраков, сковывавших их, все те, кто остановился на полдороге, все те, кто вступал в сделки с истиною, не будут туда допущены. Они раскаются в своих ошибках, они будут оплакивать свою слабость» (I, 224). Это уже ничем не прикрытый язык проповеди и поучения.
Душевная жизнь Бакунина 30-х и начала 40-х годов в достаточной мере запутанна: она складывается из многих элементов, находящихся в состоянии острого брожения. Но сам он, в поисках своего исторического самоосознания, производит жесткий отбор. Идея избранности, предназначенности для какой-то великой цели (неясно еще какой) безраздельно господствует в романтическом образе, который строит молодой Бакунин. Вокруг этой идеи, подчиняясь ей, располагаются все остальные допущенные в этот образ качества.
В русском романтизме наряду с демонической моделью – очень важной для романтического жизнетворчества начала 30-х годов – существовал и образ пророка. По-разному эта тема разрабатывалась в поэзии декабристов с их вольнолюбивыми применениями библейских мотивов, у любомудров (Веневитинов, Хомяков), наконец, в прославленном стихотворении Пушкина.
У поэтов-любомудров образ пророка существовал еще в отрыве от личности. Хомяков, например, разрабатывавший эту тему в стихах, нисколько не притязал на то, чтобы внести черты пророка в свой жизненный облик, тогда как именно к этому стремится молодой Бакунин. Возникает схема будущей биографии пророка, в которой запрограммированы даже еще не состоявшиеся удары судьбы. В 1835 году Бакунин пишет Александру Ефремову: «Я хочу видеть ее, хочу удостовериться в том, что она – не что иное, как простая женщина, добрая, умненькая, образованная, но что образ, в котором она возвысилась над всеми этими качествами, образ, который поставил ее в мир идеальный, принадлежит мне, моему воображению. Друг мой, опыт этот для меня необходим. Я еще мало испытал ударов судьбы, я сильный вышел из тяжелой борьбы; мне нужен еще один, последний удар, который бы мне дал право разорвать все свои связи с внешним миром и предать его поруганию… Ты видишь, как я благоразумен: другие бегают ударов судьбы, а я ищу их для того, чтобы навсегда обеспечить свою независимость» (I, 187). Отношение к делу, как видим, вполне сознательное. Элементы, включенные Бакуниным в собственный образ, немногочисленны. Они упорно воспроизводятся от письма к письму. Это прославление целенаправленной воли, это суровое отречение от земных благ и утех, от своего внешнего «я» ради обогащения этого самого «я» высшей жизнью духа (опять романтическая диалектика общего и личного): «Думаю, что мое личное я убито навсегда, оно не ищет уже ничего для себя, его жизнь отныне будет жизнью в абсолютном, где мое личное я нашло больше, чем потеряло» (I, 398).
Все это имело мало общего с крайне безалаберным эмпирическим бытием молодого Бакунина. Но его это нисколько не смущает. Строя себя, Бакунин исходил не из психологических данных, но из своих теорий, намерений и идеалов. Исходил из всего, чем он был действительно до глубины захвачен, на чем был страстно сосредоточен и что поэтому представлялось ему высшей реальностью. Его самоутверждение осуществляется всецело в идеальном плане, и потому оно не знает границ: «Великие бури и громы, потрясенная земля, я не боюсь вас, я вас презираю, ибо я человек!.. Я – человек, и я буду богом!» (I, 262). И в другом письме, более позднем: «Иисус Христос начал с человеко-животного и кончил человеко-богом, каким все мы должны быть» (I, 384–385). Двадцатитрехлетний Бакунин своеобразно предвосхищает здесь проблематику Достоевского: в «Бесах» основная идея Кириллова состоит в том, что человек, преодолевший страх смерти, становится богом.

![Лидия Гинзбург - Агентство Пинкертона [Сборник]](https://cdn.my-library.info/books/141514/141514.jpg)