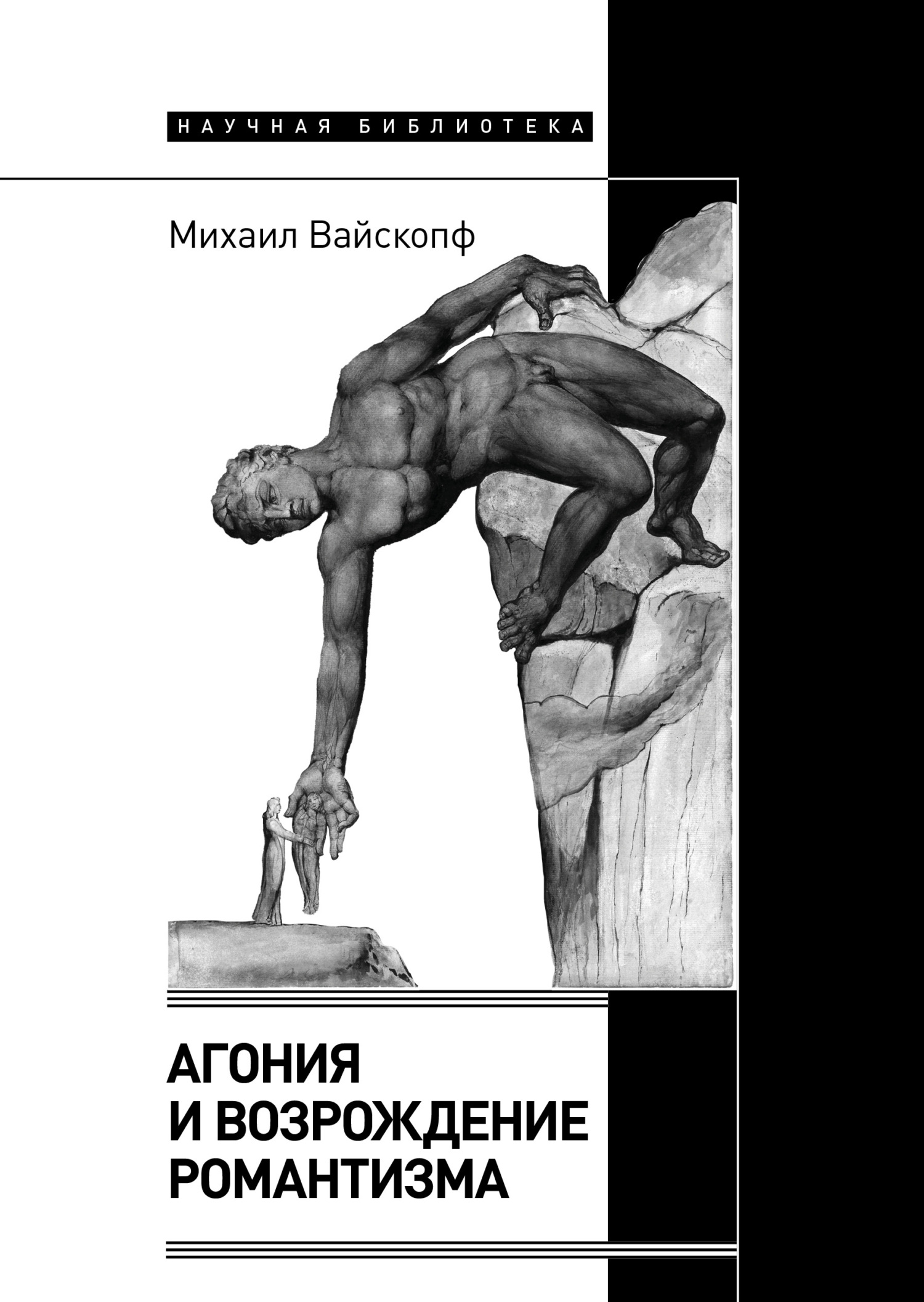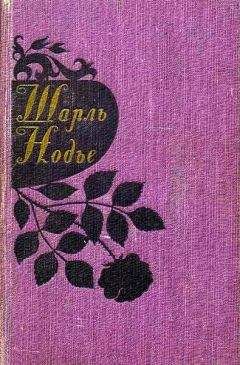уважавший армию) взял с меня двадцать, пообещав уладить это дело с хозяйкой.
– У нас тут постояльцы не чета тебе – солидные люди, – похвастался он, когда мы поднимались по темной лестнице. – На днях гостил профессор, археолог из Университета Афулы, за обедом столько всего нам наплел! Сказал, совсем неподалеку, в Кфар-Нахуме, Иисус ходил пешком по воде и ловил рыбу руками. А может, гои и врут. Слышь, солдат, оказывается, кого только в нашей Галилее не было – и финикийцы, и греки, и римляне, и хрен знает кто. Это еще до арабов было. Такую погань тут расковыряли, не поверишь – каменные херы, размером с огнетушитель, только без яиц. Весь край в развалинах – красота! Хочешь – любуйся ихней Венерой или Богородицей, не хочешь, посети могилы праведников, благословенной памяти. Я тебе говорю, мы люди радушные, это тебе не ваш Иерусалим.
За что он так взъелся на мой город, я так и не понял. Наверху тоже было темно, сломался выключатель, а окно в конце коридора заслонял широкий стенной шкаф, стоявший спиной ко мне – прямо у двери в мой номер. Постель, покрытая свежим бельем, симулировала девственность. На стене светилась фотография начальника Генштаба (суровый берет, задумчивые глаза, усы военного цвета), а напротив рекламно синел Кинерет в фате утреннего тумана. Торшер произрастал между креслом и письменным столом, пригодным для аграрных мемуаров. На столе пузырилась зеленая пластмассовая ваза с разномастной флорой.
Снаружи к дому сползались холмы, усаженные серебряными валунами, над которыми тяжело кружилось рваное галилейское небо с подтеками заката. С приземистой оливы взлетали вороны, а поодаль, сквозь мглу, нежно розовело иудино дерево. Все это я уже видел, видел в одном из прежних странствий – и увижу еще не раз.
Приняв душ, я погасил свет и лег на кровать, до пружинных судорог заезженную туристскими парочками. Почти сразу меня обступили зыбкие, бессюжетные сны – в них, ликуя, журчала вода, светившаяся изнутри каким-то кобальтовым свечением, пахла травой и влажными камнями – вероятно, смешанный эффект душа и плаката с Галилейским морем. Кто-то бедный и безликий окликал меня – но не по имени, а как-то иначе. Зов был тихий, тревожный, ночная душа спряталась от него в явь – вскоре я проснулся.
Ветер, задрав занавеску, наотмашь бил по окну, в конусе абажура плясала лампочка, и ее тени с шуршанием носились по потолку, мешаясь с бликами истлевающей предрассветной луны. Простые киббуцные очи начальника штаба сверкали сухим пистолетным блеском, усы топорщились. По полу, разливая воду, катилась пластиковая ваза с припадочным громыханием.
А за стеной с озером сквозь шум струились странные и милые голоса. Казалось, переговаривались мать с дочерью, и дочь что-то торопливо и сбивчиво рассказывала, а мать перебивала ее восклицаниями, – веселое недоумение, не может быть, неужели, – и обе изнемогали от смеха. Потом я услышал, как вода лилась там в кувшин – с таким звуком, будто кувшин был каменный, и в этой воде снова плескался и расходился со стеклянным звоном летучий смех, и девушка все болтала и смеялась, и все это походило на быстрый лепет маленького римского фонтана, выбрасывающего тонкие струи в каменный бассейн с бронзовыми львятами. Я совсем не различал слов, порой они напоминали мне греческий, иногда испанский или ладино, чуть-чуть итальянский, но все это было не то, какой-то другой язык, который я, быть может, слышал в детстве – но в каком, в каком детстве мог я его слышать? Только одно слово уловил я, и это было мое собственное имя, но прозвучало оно иначе, другое, забытое мною имя, беглый контур души. Я не сразу его опознал и не успел отозваться, имя прошелестело уже так тихо и невесомо, словно его назвали напоследок, как пароль, уходя от меня в неведомый легкий путь. А потом все смолкло, и затих ветер.
В окне я увидел торопливую киноварь зари, мельхиоровые камни громоздились на холмах, как черепа неведомой и бессчетной родни, как светлые кости отринутых поколений, готовые пробудиться к текучей и беспечальной жизни. Под самым окном, на голос невидимой свирели, выступали гомеровские овцы, облезлые овцы цвета хаки. Комната уже успела восстановить свою безличную гармонию, вчерашняя ваза с цветами как ни в чем не бывало стояла на письменном столе. Генеральское лицо больше не отделялось от стены, и зазывно синел Кинерет.
Внизу в вестибюле завтракали портье и хозяйка, вялая женщина в потрепанной кофте со спелыми пуговицами. Они пили кофе, отставив мизинцы.
– Садись с нами, – сказал портье, подвигая ко мне баночку йогурта и тарелку с каким-то гербарием. Хозяйка налила кофе.
– Что это у вас там за постояльцы, какие-то женщины в последней комнате справа?
– Женщины? – портье озадаченно взглянул на хозяйку, которая слизывала простоквашу с указательного пальца. – Да нет там никого. И никого быть не может.
– Но ведь я слышал голоса…
– Господи, это ж надо, – вздохнула хозяйка, сдвинув слегка брови. – Не знаю, что ты там слышал, только там нет никакой комнаты. Твой номер крайний, угловой. Не пойму, как таких чудиков на службу берут.
– Погоди, ты где, собственно, служишь, парень? – привстал со стула портье. – Где твоя часть? В каких ты войсках?
Не ответив, я поднял рюкзак и вышел в галилейское небо, подбитое травой и камнями. Долгая, изнурительно долгая служба досталась мне, Бог весть, когда она кончится, но я не откажусь от нее, потому что не знаю большего счастья, чем с рюкзаком за плечами и в солдатских ботинках идти по Галилее.
1981
Ферапонт Промокашин
Капля меда [697]
Гг. редакторам «Северной Пчелы»
Милостивые Государи мои!
Не могу совладать с пламенным желанием рассказать вам об изумительном происшествии, случившемся со мною по вине вашей газеты. Прочитав нумер от 13 января сего 1834 года с отчетом о балаганах и пленившись оными сообщениями, живописующими непостижимую ловкость рук и тела, вознамерился я посетить сие позорище. Одна из причин, побудивших меня к тому, была скорбь – не удивляйтесь! да, да, именно скорбь – которую испытал я после кончины любимого дяди моего Евстахия Скоропацкого. Сей дядя мой за три недели пред сим, в самый Сочельник, скоропостижно скончался от горячки вследствие неумеренного мытья в бане с присовокуплением горячительных напитков. Ибо дядя мой, суворовский инвалид, допекаемый геморроидальной болезнью, намеревался избавиться от оной, пользуясь для того самыми решительными средствами.
Чувствительная скорбь, которую ощутил я по кончине достолюбезного дядюшки, отчасти заменявшего мне отца, побуждала меня искать рассеяния в безобидных утехах. Поэтому сами можете судить, м. гг., с каким удовольствием и интересом прочел я в отделе «Смесь» достопочтенной газеты Вашей любопытнейший отчет о балагане г. Лемана. Вы, несомненно, помните его:
Первое место принадлежит Леману. Мы