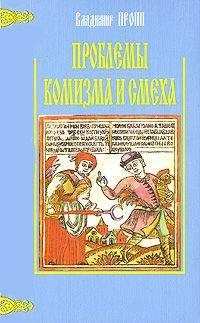Искать подлинную загадку – задача не мною придуманная. Ею занималась филологическая школа фольклористики. В теоретически незамысловатых работах исследователей этой традиции можно заметить, что усилия по выделению народной загадки среди всех других жанров неразрывно соединены с намерением уловить этот уклончивый, но интуитивно отличимый предмет.
Задача отделения народной загадки от других форм энигматики предстала перед фольклористами XIX века не в теоретическом виде – им пришлось столкнуться с задачей практического ее выделения. Дело в том, что источниками для них служили не только записи загадки в процессе загадывания, но и в результате опроса отдельных лиц, не только свежие записи народного творчества, но и старинные тексты, где цитировались загадки, а также старые сборники загадок, включавшие различные загадочные вопросы без разбору. Проблема жанра предстала тут перед фольклористами в обостренном виде. Замечательна последовательность, с которой они прокладывали путь к пониманию особенной природы народной загадки. При этом многие из них шли своими независимыми путями к прояснению в общем одной и той же интуиции, и только на каком-то этапе отдельные усилия стали поддерживать друг друга.
Иоханнес Элерс (Johannes Ehlers), собиратель загадки Шлезвиг-Хольштейна, предложил отличать загадки, предназначенные для смыслового разрешения (das Sinnrätsel) от всего разнообразия хитроумных вопросов, основанных на игре слов, перестановках букв, перемещении слогов и других игр образованной публики (Элерс 1865). Заметить следует у него именно попытку рассмотреть народную загадку не просто как одну из форм энигматики, а противопоставить ее всем другим ее формам вместе взятым. Гастон Парис в своем предисловии к сборнику французских загадок предложил различие между «les énigmas de mots et les énigmas de choses» («загадками о словах и загадками о вещах»), которое более или менее соответствует различию между загадкой интеллектуальной и подлинно народной (vraiment populaire) (Парис 1877: VII). В том же году, то есть действуя независимо и параллельно, собиратель сербского фольклора Стоян Новакович (Стоjan Новаковиħ) стал отличать собственно загадку (праве загонетке) от таких жанров, как остроумный вопрос, загадка, разгадываемая на пари, загадочный вопрос, предполагающий математический расчет (Новакович 1877). Собиратель и исследователь мекленбургского фольклора Рихард Воссидло (Richard Wossidlo) сосредоточил свое внимание на жанре предметной загадки (das Sachrätsel), которую он определил по «Поэтике» Аристотеля (Воссидло 1897). Э. Х. Майер (Elard Hugo Meyer) в своем обобщающем труде по немецкому фольклору говорит, как и Новакович, о собственно загадке (das eigentliche Rätsel); она отличается от загадочных вопросов стилистическими особенностями, которые составляют ее сердцевину, такие, как ассонанс, осевая рифма, странные фонетические образования и искаженные слова (Майер 1898: 333). Наконец, Роберт Петш (Robert Petsch) также со ссылкой на Аристотеля говорит о необходимости отличать подлинную народную загадку от неподлинной (das wirkliche / das unwirkliche Volksrätsel) (Петш 1899). Заметим, что Петш стремится отдифференцировать подлинную загадку как будто вслед за Парисом, Новаковичем, Воссидло и Майером, но по существу он перенес центр тяжести вопроса отчетливо в область форм самой народной загадки.
На пике этих усилий по выделению подлинной загадки в качестве образцовой Петш предложил свое понимание загадки как морфологически сложного образования и осуществил первый анализ структуры загадки. Так как он, как и многие другие, а может быть и все фольклористы, опирался в своем понимании загадки на Аристотеля, то нам следует подробнее уяснить себе, что же сказал создатель поэтики – его определение отнюдь не прозрачно.
Сегмент «Поэтики», в современных изданиях обозначаемый как глава XXII, Аристотель посвятил стилистике словесного выражения. «Достоинство словесного выражения, – так начинается этот текст, – быть ясным и не быть низким». Философ сразу же отмечает противоречивость этого требования, потому что, будучи противоположностью низкого, «благородное и незатасканное выражение есть то, которое пользуется необычными словами», а необычные выражения уклоняются от ясности. Противоречие его не смущает, скорее, даже привлекает. В качестве примеров необычных выражений он называет глоссу и загадку. Глосса относится к варваризмам. Загадка пользуется метафорой – это благородное, необычное и неясное выражение. Разрешает противоречие Аристотель в своем обычном ключе: чтобы соединить ясность с благородством нужно метафору перемешивать с простыми словами. По ходу этого размышления он определяет загадку следующим образом: «… идея загадки такова: говоря о действительно существующем, соединяют это с чем-то совершенно невозможным. Этого нельзя достигнуть сочетанием слов, но с помощью метафоры можно» («Поэтика» XXII [1558a]). В переводе В. Г. Аппельрота под редакцией Ф. А. Петровского трудное выражение «нельзя достигнуть сочетанием слов» правдоподобно разъяснено: «связью <общеупотребительных> слов» (Аристотель 1957: 114). Аристотель тут же приводит следующий пример поэтической загадки: «Мужа я видел, огнем приклеившим медь к человеку». В «Риторике» философ приводит эту же загадку и поясняет, что речь идет о кровососных банках. И добавляет: «Из хорошо составленных загадок можно заимствовать прекрасные метафоры; метафоры заключают в себе загадку, так что ясно, что <загадки> – хорошо составленные метафоры» («Риторика» 3.2 [1405b]; Аристотель 1978: 131).
Сказанное Аристотелем подходит к народной загадке. Он указал логическую особенность загадки: 1) загадка описывает экстравагантный и противоречивый предмет или событие; 2) составляющая загадку метафора соединяет два несовместимых предмета – действительно существующий с совершенно невозможным. Действительно существующее, подразумеваемое в качестве предмета загадки, ее ответа, – это нечто, что мы знаем из нашего опыта, обыденная вещь, доступная называнию простым словом. Совершенно невозможное – понятие трудное; оно относится не к ограниченности нашего частного опыта, а ссылается на границы возможного опыта вообще. Оно указывает на пределы рациональности. Загадка, таким образом, выходит за пределы рациональности. Выходит, разумеется, на мгновение, поскольку все же имеет осмысленное решение. Но она заигрывает с запредельным рациональности, заглядывает за ее край. Такое определение загадки дал создатель формальной логики!
Фольклористы-филологи XIX века не занимались анализом Аристотеля, но приняв его определение, интуитивно двигались в подсказанном им направлении. Роберт Петш был первым, кто усмотрел в аристотелевой перспективе возможность морфологического исследования загадки. Идя по заданному его предшественниками пути противопоставления собственно загадки всем другим формам энигматики, он заметил, что подобная же проблема – выделения собственно загадки – остается актуальной и в самой области народной загадки: здесь тоже нужно отделять подлинную загадку от неподлинной (das wirkliche / das unwirkliche Volksrätsel). Подчеркиваю это замечательное событие: выделение народной загадки в качестве подлинной в области энигматики и выделение в области народной загадки подлинной, определяющей жанр формы сошлись в едином фокусе.
Именно подлинная загадка, по Петшу, характеризуется особой внутренней структурой. Отправляясь от Аристотеля, Петш все же читает его в рационалистическом ключе нового времени:
“Действительные” загадки имеют своей задачей описать некоторый предмет в затемненной, побуждающей к раздумью, вероятно даже, запутанной, поэтической оболочке, так что из этого описания его внешнего вида, его происхождения, его образа действия и т. д. можно и должно посредством рассудка распознать, или разгадать, этот предмет. (Петш 1899: 5)
Затемненность здесь относится только к форме, содержание же предполагается вполне рациональным. Как видим, Петш читает загадку в доантропологическом ключе, без понимания того, как загадка в действительности функционирует, в полной уверенности, что она подлежит индивидуальному рассудочному разгадыванию.
И все же у Петша есть важный нюанс: разгадывание имеет у него особый смысл. Подлинная загадка у него предназначена для разгадывания именно в отличие от других форм энигматики; это не тот же акт, что в других случаях. Другие формы энигматики ставят четко характерные вопросы. Последние у Петша представлены тремя разновидностями: испытаниями мудрости (die Weisheitsproben), шееспасительными загадками (die Halslösungsrätsel) и шуточными вопросами (die Scherzfragen). Но характер вопроса подлинной народной загадки определить непросто. Ясно, что неподлинные загадки не входят в поле интересов автора, а приводятся лишь для того, чтобы их отсеять и тем самым извне в обширном поле энигматики отграничить поле подлинной загадки. Когда имеешь дело со сложным, темным и ускользающим предметом, имеет смысл прежде всего указать на то, чем он не является, отделив от него то, что находится рядом и поддается более легкому определению. Замечательно же то, что Петш выгораживает поле подлинной загадки не для того, чтобы представить ее как однородное явление, а для того, чтобы в огражденных пределах можно было рассмотреть морфологическую сложность, гибкость, разнообразие загадки и в этом разнообразии усмотреть образцовую форму, определяющую жанр. Исследовательскому взгляду предстоит пробиться сквозь это озадачивающее многообразие загадки.