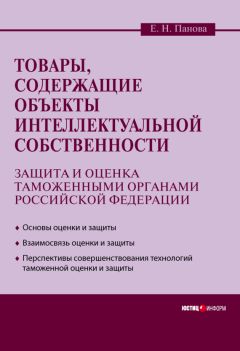ЛИТЕРАТУРА
Блок – Блок А.. Собр. соч. в 8 тт. Т. 8. Письма 1898—1921. М. 1963.
Войтехович – Войтехович Р. С. Марина Цветаева и античность. М.; Тарту, 2008.
Волошин 1913 – Волошин М. О Репине. М.: «Оле-Лукойе», 1913.
Волошин 1989 – Волошин М. Лики творчества. Л., 1989.
Воспоминания 1 – Марина Цветаева в воспоминаниях современников: [В 3 т.]. Рождение поэта. М., 2002.
Гаспаров – Гаспаров М. От поэтики быта к поэтике слова // Марина Цветаева. Статьи и тексты: Wiener Slawistischer Almanach. Wien, 1992. Sbd. 32. S. 5—16.
Клинг – Клинг О. А. Художественные открытия Брюсова в творческом осмыслении А. Ахматовой и М. Цветаевой // Брюсовские чтения 1983 года: сб. ст. Ереван, 1985. С. 235—247.
Критика 1 – Марина Цветаева в критике современников: В 2-х ч. Ч. 1. 1910—1941 годы. Родство и чуждость. М., 2003.
Летопись – Коркина Е. Б. Летопись жизни и творчества М. И. Цветаевой. [В 3 ч.] Ч. I: 1992—1922. М., 2012.
Саакянц – Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., 1997.
СС1—7 – Цветаева М. И. Собрание сочинений: В 7 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А. А. Саакянц и Л. А. Мнухина. М., 1994—1995.
Швейцер – Швейцер В. А. Марина Цветаева. 2-е изд. М, 2003.
Шевеленко – Шевеленко И. Д. Литературный путь Цветаевой: Идеология – поэтика – идентичность автора в контексте эпохи. М., 2002.
Эфрон 1—3 – Эфрон А. С. История жизни, история души: В 3 т. / Сост., подгот. текста, подгот. ил., примеч. Р. Б. Вальбе. М., 2008.
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Нижний Новгород
Поэтика жанров поздней лирики Боратынского
Представление о Боратынском как поэте-элегике сложилось в самом начале его поэтической деятельности. Пушкинский отзыв об элегии «Признание» в письме к А. Бестужеву от 12 января 1824 года: «Баратынский – прелесть и чудо; „Признание“ – совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий»,65 – закрепил и канонизировал эту репутацию. Впоследствии она оказалась естественным образом спроецированной на лирику Боратынского 1830ых – первой половины 1840ых годов. Выход поэта за пределы элегического жанра, расширение тематического, образного, эмоционального диапазона его лирики практически не изменили жанрового кода ее прочтения. Едва ли не все, написанное Боратынским (за исключением, разумеется, нарративных поэм и эпиграмм), традиционно воспринималось в рамках вариаций элегического жанра. Точную и впоследствии многократно цитированную в различных работах о Боратынском формулу элегичности как жанрового видения мира нашел в 1838 году Н. А. Мельгунов, назвавший Боратынского «элегическим поэтом современного человечества».66 Эти слова Н. А. Мельгунова цитирует в своей статье о Боратынском С. Г. Бочаров, говоря о том, что «единство пути поэта и укорененность философской поэзии „второго периода“ почувствованы здесь точно»67 и генезис поздней лирики Боратынского лежит именно в сфере его ранних элегий. Эти же слова приводит в своих работах о Боратынском И. Л. Альми, видя в них своего рода ключ к среднему и позднему периодам творчества поэта68.
Не оспаривая такого подхода к поэзии Боратынского в целом, попробуем уточнить его, исходя из того, что поздняя лирика поэта не может быть описана в едином жанровом ключе. Более того, при всем обилии посвященных Боратынскому прекрасных работ, вопрос о поэтике жанров его поздней лирики не только не решен, но и не сформулирован достаточно отчетливо. Неслучайно в лучших работах о Боратынском говорится о жанровой уникальности ряда его зрелых стихотворений: так, лирическая миниатюра «Мой дар убог и голос мой не громок…», по мысли С. Г. Бочарова, тяготеет к «памятнику»69, И. Л. Альми определяет «Последнюю смерть» как «единственную в своем роде лирическую антиутопию»70, а «Осень» – как форму философской исповеди71. Сильное одическое начало, присущее «Осени», отмечает В. И. Козлов.72 О неслучайности заголовка «Антологические стихотворения» при первой публикации цикла из пяти миниатюр пишет С. А. Фомичев.73 Связь ритмической природы «Последнего поэта» с балладной традицией показана в работе А. И. Журавлевой74. И все же можно предположить, что магистральный путь позднего Боратынского был связан не столько с открытием уникальных жанровых образований или переосмыслением старых, сколько с резким и неожиданным соединением различных жанровых установок. По точному замечанию Л. Я. Гинзбург, поздний Боратынский – это «поэт индивидуальных контекстов и совмещенных противоречий».75 Если элегической эмоции, по словам В. А. Грехнева, была свойственна установка на «универсальность» и «всеохватность»76, то лирическая эмоция Боратынского 1830—1840ых тяготеет скорее к динамике, неустойчивости, ситуативности. При этом сам ее диапазон отнюдь не вмещается в элегические рамки: наряду с «разуверением» и разочарованием ранних элегий в зрелую лирику Боратынского проникают раздражение и обида на современников, самоумаление и самоутверждение, стремление соотнести случайное, ситуативное и всеобщее, вневременное. В произведениях 1830—1840ых годов Боратынский словно бы выходит в те сферы бытия, которые каноническая жанровая система (к тому времени уже распадавшаяся) была не в силах вместить. Постепенный распад системы канонических жанров практически совпал по времени с отходом Боратынского от литературной деятельности и выбором им пути «мурановского отшельника». Вероятно, в свете его философской рефлексии распад жанровой системы непосредственно соотносился с распадом «плеяды», с одной стороны, и цельности видения мира – с другой. Речь, таким образом, шла не об отказе от жанровых канонов: впитавший, по слову А. Дельвига, «правила французской школы…. с материнским молоком»77, Боратынский остро нуждался в них как в смысловых ориентирах, удерживающих распадающийся мир. Но ориентиры эти смещались.
Все это привело к тому, что различные жанровые установки в лирике Боратынского 1830—40ых годов оказались сплавленными самым неожиданным образом, Так, одическое начало остро и драматически соединяется с элегическим («Осень»), элегия перерастает в инвективу, которая в свою очередь разрешается идиллией («На посев леса»), заздравный гимн соединяется с лексикой дружеского послания и лирическим сюжетом духовной оды («Бокал»), мадригал взаимодействует с эпиграммой («Всегда и в пурпуре и в злате…»), поэтический травелог – с элементами духовной оды («Пироскаф»). При этом рудименты каждого жанра – стилистические, ритмические, образные – сохраняют свою узнаваемость, часто определяемую как присущую Боратынскому архаичность.
В свою очередь можно предположить, что именно в этом неожиданном столкновении разных жанровых канонов крылась как минимум одна из причин читательского непонимания поздней лирики Боратынского: заданный жанром «горизонт ожиданий» предполагал определенный путь восприятия. Жанровая перекодировка разрушала эти читательские ожидания и провоцировала непонимание. Но именно читательское непонимание («Ответа нет! Отвергнул струны я…») осознавалось Боратынским как катастрофа – и тем самым ставило перед необходимостью новых жанровых поисков, поскольку канонические жанры практически не предусматривали рефлексии, направленной на отношения с читателем. Ситуация замыкалась – «круг понимания» оставался разомкнутым.
Попыткой нового «оцельнения»78 лирического мира стало создание первой в русской поэзии «книги стихов» – цикла «Сумерки». Но мы остановимся не на «Сумерках» как «лирическом единстве»,79 поскольку оно было многократно осмыслено80, а на ряде поздних текстов, как включенных в «Сумерки», так и созданных после выхода книги стихов. Выбор анализируемых стихотворений почти произволен: с одной стороны, перед нами, безусловно, ключевые для позднего Боратынского произведения, с другой, здесь наглядно представлена та контаминация жанров, о которой шла речь выше. Вместе с тем, ни одно из этих стихотворений (в отличие, допустим, от «Осени» или «Последнего поэта») не становилось предметом специального анализа в жанровом аспекте.
Открывающее книгу «Сумерки» стихотворение «Князю Петру Андреевичу Вяземскому», несомненно, восходит к жанрово-семантическому канону дружеского послания. Прежде всего, об этом свидетельствует авторское определение жанра – в начале ноября Е. А. Боратынский пишет С. Л. Энгельгардт: «По будущей почте пришлю тебе послание к Вяземскому».81 Характерное для послания заглавие фиксирует образ адресата, но обращение к реальному лицу – князю Петру Андреевичу Вяземскому – приобретает здесь новый смысл: это перекличка «звезд разрозненной плеяды», тогда как поэтический мир дружеского послания строился на представлении о нерушимой целостности круга, «упоительном ощущении литературной общности»82. Семантический канон дружеского послания почти незаметно, но значительно смещается относительно своих прежних границ.