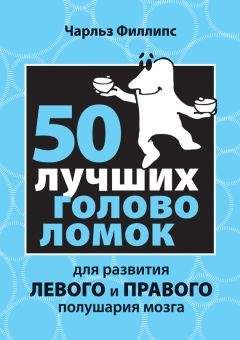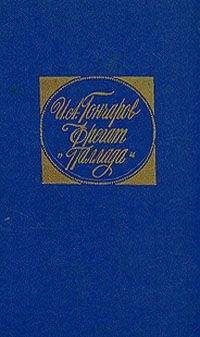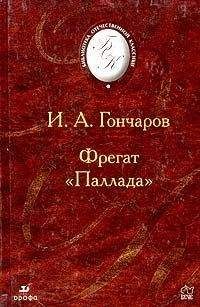При всей любви к историософской выделке родных шкурок и зверском аппетите к крабовому мясу магических чисел, Хлебников душой болеет все-таки не за них. Вершина северного неба, особенная стать отчизны – ее язык, русское слово. Вера зиждется на нем.
Какова же тайна имен, быть может, лучшее, что оставили после себя Тютчев и Одоевский? Почему Хлебников, уж если он так превозносит последнего, не потрудился правильно назвать его книгу – «Русские ночи», а упорно и ошибочно именует ее «Белыми ночами»? Какое отношение к истории русской словесности имеет астроном Бредихин?
Директор Пулковской обсерватории действительно родился в 1831 году (через 28 лет после Тютчева и Одоевского) и умер в 1904 году. И действительно обогатил науку выдающимися открытиями – развил механическую теорию кометных форм, объяснив все наблюдавшиеся образования кометных хвостов отталкивательной силой Солнца. Он исследовал процесс распада комет и возникновение метеоритных потоков.
«Белые ночи» предсказывают его рождение? Слегка абсурдно, но в этом и кроется тайна имен, поколенческий секрет преемственности, неутомимая жажда Хлебникова проследить цифровые связи и выявить соответствия. Как зовут всех этих спутников, уходящих на остров веры? Федор Иванович Тютчев. Владимир Федорович Одоевский. Федор Александрович Бредихин. И наконец – Федор Михайлович Достоевский. Последний «Белыми ночами» предсказывает рождение Бредихина и чрезвычайно важен как участник синклита, но, увы, подкачал и родился преждевременно – в 1821, через 18, а не 28 положенных лет. Каждый заключает своим именем провиденциальное, божественное начало – «Теодор». Подобным образом разлагал и разыгрывал имя Теодора де Банвиля (le divin Theodore de Banville) Малларме в III части своей «Литературной симфонии».
Одежды судьбы шьются именем божьего величия, укрепляют стать страны. Космический Тютчев – грозовые тучи и божественные ливни. С его высот вся земля может казаться «погадкой совы», непрожеванным комком, изрыгаемым хищной птицей, «кормом зевесова орла»:
О Тютчев туч! какой загадке,
Плывешь один, вверху внемля?
Какой таинственной погадка
Совы тебе, моя земля? (…)
Взор обращен к жестокому Судье.
Там полубоязливо стонут: Бог,
Там шепчут тихо: Гот,
Там стонут кратко: Дье! (IV, 233–235)
Владеющий миром музыки Одоевский – голос из торжественного хора «Русских ночей», борющихся за «Белые ночи» Достоевского. Бредущий, по завету имени, по небу астроном Бредихин управляет хвостатыми кометами. Он передает свои математические познания потомку Хлебникову, и поэт в образе Зангези, одолев тайну числа, определяет стоимость вселенной. Он стоит на острове, утесе веры, заклиная мир вычислениями:
Я скачу и пляшу на утесе.
Когда пою, мне звезды хлопают в ладоши.
Стою. Стою! Стойте!
Вперед, шары земные!
Так я, великий, заклинаю множественным числом,
Умножарь земного шара: ковыляй толпами земель,
Земля, кружись комариным роем. Я один, скрестив руки,
Гробизны певцом. (III, 343–344)
Федор Достоевский – идеальная фигура этой богоподобной стати, именем своим воплощающий идею твердостояния, особого положения художника в мире, полноты и достатка обретенного бытия. Его имя – символ достоинства и пророческой обращенности.
Все так – смена поколений, законы числа, борьба добра и зла, веры и неверия. Но почему нужно быть благодарным за одни только имена? Почему имя – лучшее из того, что остается? «Федор» с греческого – «божий дар». В коренном составе имени – «Дар» и «Бог». Обладающим даром Божьим. Даром чего? Даром за что? История оборачивается Откровением, личность – сверхличностным бытием, а вопрос веры требует ответа поэтического. Высший дар – имя, слово. Если поначалу «Тютчев», «Одоевский», «Достоевский» – точки предельной индивидуации, то объединяющий их теодорический именнослов – точка захвата целого, размыкания на бытие.
В самом имени «Достоевский» – равновесие, устойчивость и прямостояние смысла.[83] Но это стать движения, поиска и обретения. Имя отделено от мира, сплочено. Основной признак его – достоинство. Бытие этого имени дано в самозамкнутой и уравновешенной в себе полноте. Поэтому оно исполнено совершенства. Истинность его устанавливается не относительно чего-либо, ему внеположенного, а им самим. Прекрасная цветущая форма. Саморазвертывание вовне плотной бытийственной самососредоточенности.
Звуки крепко и благородно всходят дугою, чтобы плавно и евхаристически низойти и подняться вновь: «До-сто-ев-ский». Имя раскрывается в артикуляции, как клейкий листок из почки. Произнесение цельно, звуки пригнаны друг к другу, как створки раковины, имя внутренне богато и гармонично. Но Достоевский всегда на краю всепоглощающей бездны. И никаких разумных оснований рассчитывать на целость нет, потому что всякий раз он бросается в эту бездну с открытыми глазами и в расчете на неминуемую гибель. Когда же этого не случается, спасение сходит ему как чудо и явленная помощь высших сил, неожиданная и благодатная. Федор! И сколько бы ни повторялась эта отдача себя грозной и все же родимой, близкой стихийной бездне, она всегда делается с решимостью окончательной гибели и полного растворения в мировой первооснове. Поэтому сохранение целости всякий раз – милость Божья, незаслуженный дар. Федор – имя не земное, небесное. Даже присваиваясь историческому лицу, оно остается тварным именем духовного мира, мерилом вечности. Это богоподобное имя молниеносной быстроты и непреодолимой крепости – средоточие высших энергий в их осуществлении и посланничестве. Поселяясь в мирской истории, оно остается откровением и, истинно пребывая, не делается здесь своим.
Унылая пора! Очей очарованье…
А. С. Пушкин
Кем полосынька твоя
Нынче выжнется?
Чернокосынька моя!
Чернокнижница!
Марина Цветаева. «Ахматовой»
31 марта 1908 года начинающий поэт, студент Казанского университета Виктор Хлебников отправил в Петербург письмо мэтру символизма Вячеславу Иванову. В нем на суд учителя юный «подстерегатель» (так Иванов позже аттестует ученика) вынес дюжину своих стихотворений. Вот одно из них:
Желанье-смеяние прыщавою стать
Пленило-венило довещную рать.
Смеялись-желали довещные рати
Увидеть свой лик в отраженье иначе.
И сыпи вселенных одна за другой
Выходили, всходили, отходили в покой.
И строи за строем вселенных текли,
И все в том желанье-рыданье легли.
И жницей Времиней сжатые нивы
Оставляли лицо некрасивым.
И в одной из них раньше, чем тот миг настал,
когда с шумом и блеском, и звоном и треском
рассыпалось все на куски, славень, – я жил…[84]
Антиэстетический вызов угрюмого и угреватого юнца брошен с первой строки. Кривая прыщавая рожа повернута к зрителю, как к зеркалу. Но сочинитель не пеняет, не страдает, а смеется. Стихотворение – о российской истории, в постоянной заботе Хлебникова о соотношении гомеопатических доз простых чисел с бесконечностью. Пластическая операция на тему «Время – мера мира». Смешливой стороной монеты, ее реверсом, служит этот текст, сам двуликий, как Янус.
Рисковым посылом является каламбур пора / пора. Он своевременно и ревниво схватывает слово, позволяя разглядеть его в упор. «Довещные рати» такого увеличенного изображения – кожа с порами. Каждая пора – тростинка, скважина тела, вентиляционная труба, позволяющая дышать.[85]
Маленький ротик, побеждающий любого неприятеля числом и ратным петитом целого братства, галдящего гнезда. Рот тысячекратен, плоть тысячеротна. Если пора – единица воинского строя телесного пространства, то пора – мера времени и определяет краткий миг существования на огромном теле Истории, нелинейное время жизни.
Поры кожной поверхности могут болеть – покрываться сыпью, прыщами, чирьями. (Фурункулез – расхожая метафора олитературенного быта. Кажется, Палиевский сначала Мандельштама, а потом и Хлебникова называл нарывом на теле русской поэзии. А может это был Кожинов, что еще лучше?) Орнитолог Хлебников развивает тему в том же посланном Вяч. Иванову цикле:
И чирия чирков по челу озера,
По чистому челу – меж власьев тростников.
Рати стрекозовья
Небо полнят
И чертят яси облаков,
Рати стрекозовья.
Рыбы волнят
Озеро. (I, 111)
Озеро – чело, заросли тростников – волосы. Чирки усеивают водную гладь как прыщи на теле натуры. Стая птиц – озерный псориаз ландшафта. Глагол «прыщать» однозначен «прыскать». Отсюда все «смеяния» хлебниковского стихотворения. Прысканье от смеху. Жница-времиня жнет нивы, где короста и сыпь «оставляют лицо некрасивым».