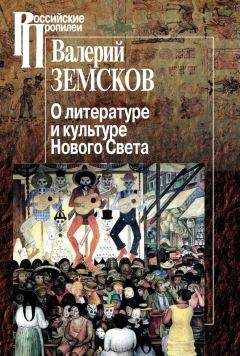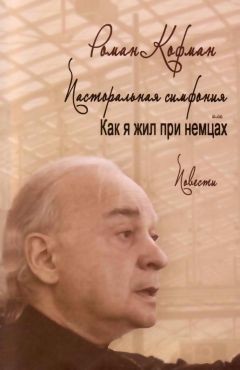Для древнего мифологического сознания реальность – часть чудесного; для бытового, «ослабленного» мифологизма чудесное – часть обыденной действительности. Такое сознание (как и детское) не уверено в реальной возможности чуда, но начинает верить в него в рамках эстетической ситуации, когда начинает работать воображение, тогда сознание превращается в творческий субъект и возникает фантастическая действительность, обладающая способностью к генерированию чудес. Чудо происходит не всегда, но всегда может произойти.
Вспомним летающих влюбленных Шагала и вознесение Ремедиос Прекрасной, и поймем внутреннюю близость фантастики Гарсиа Маркеса и Шагала, который и был связан с экспрессионизмом, и выпадал из него благодаря полнокровной связи его мироощущения с народной почвой.
В мире Гарсиа Маркеса все может произойти и происходит, здесь никто ничему не удивляется. В эпизоде с Ремедиос Прекрасной будничность, обыденность события выявляет реакция окружающих. Событие не в том, что Ремедиос вознеслась, а в том, что вознеслась на новых простынях, которые жаль Фернанде, и из-за этого она ворчит.
Вспоминая работу над романом, Гарсиа Маркес рассказал, как нашел решение таким способом убрать из сюжета Ремедиос, исчерпавшую свою роль. Он вышел во двор и увидел, как женщина, борясь с ветром, развешивала на веревке простыни, взмывавшие от его порывов. Простыни как крылья! А саму идею вознесения подсказало тоже местечковое происшествие. Девушка сбежала с возлюбленным, а опозоренная мать совершенно серьезно утверждала, что она вознеслась на небо. Неважно, что соседки не верили ей – важно, что эта версия казалась матери правдоподобной.
Такое, питающееся народным суеверием, бытовое «магическое» сознание и есть основа чудесного мира Гарсиа Маркеса. А его сердцевина – убеждение, вопреки прагматической жизненной логике, в том, что действительность таит в себе безграничные возможности преображения явлений во всех сферах взаимодействия человека с жизнью. Такое сознание преодолевает конечность человеческой жизни. Ведь смерть, исключающая дальнейшую возможность жизни, превращаемости, развития, – это самая могущественная сила отчуждения. Сознание, утверждающее возможность чуда, отменяет диктуемую эмпирическим опытом отчуждающую силу и утверждает иную динамику отношений жизни и смерти, перенося принцип всеобщей превращаемости явлений и в эту высшую сферу действия сущностных сил бытия.
Идея взаимопроницаемости жизни и смерти, изначально, с юности, будоражившая писателя, воплощена в «Сто лет одиночества». Сближение двух полярных и взаимодействующих начал бытия проведено здесь на всей истории рода Буэндиа, рассказанной уже после его гибели. Жизнь рода, ее смысл поверяются его гибелью. Начала жизни и смерти сведены и в жизни Буэндиа, они постоянно смотрятся, взаимопроникают друг в друга. Вот несколько примеров, характеризующих взаимопроницаемость двух миров. Пруденсио Агиляр, которого убил основатель рода Буэндиа – Хосе Аркадио, постоянно является к нему побеседовать, и в конце концов они становятся друзьями. Мелькиадес умирает и воскресает, после смерти он продолжает жить в доме Буэндиа. Основатель рода умирает, но остается сидеть под каштаном, и его видят те, кто способен его видеть, а Урсула постоянно беседует с ним о домашних делах. Амаранта, собравшись умирать, берет с собой письма жителей Макондо, чтобы отвезти их на тот свет. Последние в роду слышат разговоры мертвых предков, их возню, вздохи.
Все границы сняты, «тот» и «этот» миры свободно общаются между собой, причем это общение не помраченное страхом или ужасом, а фамильярное и естественное. Не трагическое столкновение врагов, а общение соседей по общему жилью, которые хотя и недолюбливают друг друга, но жить друг без друга не могут.
В мире, в котором границы между жизнью и смертью сняты, жизнь обретает новое качество. Перед лицом небытия она наделена особой мощью, буйством, энергией и бесстрашием. Чего бояться жизни в мире, где не довлеет роковая сила смерти? Ведь здесь можно и воскреснуть. И не по распоряжению высшего существа, будь то христианский или иной Бог, нет, это просто свойство бытия. Какой уж там Бог, если для подтверждения своего существования он способен всего-навсего приподнять священника со стулом, на котором тот сидит, и то всего на 12 сантиметров! Нет, не Бог детерминирует здесь бытие и судьбу. У человека здесь нет страха перед внешней по отношению к миру силой, все в самой жизни, в самом человеке, у которого с действительностью самый вольный контакт.
Всемогущество метаморфозы, безграничная способность жизни к развитию и превращаемости – такова основа фантастической действительности Гарсиа Маркеса. И если в плане «технологии» обытовления чуда он многим обязан опыту Кафки и сюрреализму, то сущность миров Кафки и Гарсиа Маркеса совершенно различна. Более того – они взаимоотрицают друг друга.
XX век породил чреду творческих концепций сошедшей с ума действительности, имевших статус течений. Масштабными творцами таких миров были Джойс с его идеей «кошмара истории», Кафка с его сумасшедшей действительностью канцелярского чиновного мира, в сюрреализме центральные фигуры – Бретон в литературе и Дали в живописи. У всех этих течений общая основа – кризис сознания. Прозаически упорядоченная действительность одиноких индивидуумов, когда она превращается в доведенную до абсурда систему, где человек утрачивает человеческое, личностное начало, взрывается. Серая обыденность вспыхивает фантастикой, гротеском кошмаров сознания, рухнувшего в хаос и не видящего перспективы новой организации и упорядочения мира.
Основа кафкианской фантастической действительности – идея ограниченности метаморфозы и эволюции бытия. Превращение человека в насекомое – это и есть уничтожение человека, конечная точка метаморфозы Кафки – смерть. Кафкианская фантастическая действительность – это однотоновая, одномерная действительность с минусовым знаком, где мифологизированное зло – всеподавляющая сила.
Такой односторонний гротеск, ведущий лишь в сторону смерти, был и у раннего Гарсиа Маркеса. Теперь иное дело. Чудо у Гарсиа Маркеса начинается там, где у Кафки оно кончается, ибо у Гарсиа Маркеса превращение может происходить во «все стороны» – не только в сторону смерти, но и в сторону жизни. У него возможна страшная метаморфоза. Именно это, в конце концов, происходит с Буэндиа, которые гибнут вместе с Макондо после того, как у последнего в роду отрастает свиной хвост – чудо, равное превращению Грегора Замзы в насекомое. Но трагическое, ужасное, смертельное не абсолютизируется у него как единственно возможное, у него мир чреват и иными возможностями. Вспомним эпизод с Ремедиос Прекрасной. Здесь происходит вдохновляющее чудо, приобщающее к положительным силам бытия. У Кафки человек может превратиться в насекомое, но крылья у него вырасти не могут.
Фантастическая действительность Гарсиа Маркеса воплощает бесконечность творческой метаморфозы, свободы вольного бытия. И важно не число «положительных» превращений, а возможность такого превращения. Образ-эмблема и полемическая цитата из Кафки – постоянный у Гарсиа Маркеса образ человека-змеи, человека-паука, девушки-скорпиона. Он появляется и в «Сто лет одиночества», и в рассказе «Очень старый сеньор с огромными крыльями» (из более позднего цикла рассказов), и в «Осени патриарха». Человеко-животных показывают народу на ярмарке, и хотя нигде обратного превращения не происходит, чувствуется, что это не конечное превращение, оно может произойти и в обратную сторону. Как в сказке, где царевна может стать лягушкой, а лягушка – царевной. Никакое превращение, в том числе и смерть, здесь не абсолютно. Если жизнь таит в себе возможность смерти, то и смерть не бесплодна.
Гарсиа Маркес отвергает и другой тип однотонового, догматизированного сознания – механистичный и рационализированный, воспринимающий жизнь как вялую, бесплодную действительность, неспособную превзойти себя в движении к принципиально новому качеству. Здесь творческая концепция Гарсиа Маркеса перекликается более чем через полтора столетия с миром Гоголя, о котором М. М. Бахтин писал: «Гротеск Гоголя есть… не простое нарушение нормы, а отрицание всяких абстрактных, неподвижных норм, претендующих на абсолютность и вечность. Он отрицает очевидность и мир “само собой разумеющийся” ради неожиданности и непредвидимости правды. Он как бы говорит, что добра надо ждать не от устойчивого и привычного, а от “чуда”. В нем заключена народная, обновляющая, жизнерадостная идея»[34].
Застылость – движение, косность – новизна, бесплодие – плодотворность, вялая эволюция – «сумасшествие» качественного скачка, коренной метаморфозы – таковы внутренние оппозиции мира Гарсиа Маркеса, отрицающего механистическую картину бытия. И тут важнейшая для Гарсиа Маркеса идея воображения (не фантазии!) как высшей преобразующей творческой силы. Чудо воображения, «сумасшествие» открытия уходят корнями в творящую диалектику бытия, отвергающую бесплодие залогизированного интеллекта. Марио Варгас Льоса писал о «яростном антиинтеллектуализме» Гарсиа Маркеса. На самом деле яростное отрицание им механистического ума, заковывающего действительность в схемы, – это качественно иное явление, в сравнении с антиинтеллектуалистским синдромом западной культуры XX в., с философским или мистическим агностицизмом. Это не пафос отрицания интеллекта вообще, а «дурного интеллекта», пытающегося втиснуть свободу бытия в клетку «предвзятой теории»[35], отрицающей бесконечность и многовариантность путей развития. Вывести сознание из схемы, из состояния инерции, показать ему действительность во всей ее поливариантности – в этом корни стремления Гарсиа Маркеса к карнавальному по своей сути выворачиванию действительности «наизнанку».